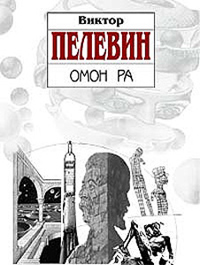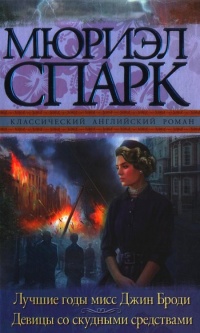Книга Ящер страсти из бухты грусти - Кристофер Мур
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
– Ох господи. Похоже на день из жизни лос-анджелесского участкового.
– Тут не Лос-Анджелес. Не хочу жаловаться, но я не очень готов к волне преступности.
– А бежать отсюда больше некуда, – сказала Эстелль.
– Простите?
– Люди сбегают сюда от конфликтов, вам не кажется? В маленький городок, чтобы избежать насилия и конкуренции большого. И если вам здесь трудно с этим справиться, то бежать некуда. Можно просто задрать лапки.
– Цинично как-то. Я думал, художники должны быть идеалистами.
– Сотрите с циника краску и обнаружите разочарованного романтика.
– Вы такая? – спросил Тео. – Разочарованный романтик?
– Единственный человек, которого я любила, умер.
– Мне жаль.
– Мне тоже. – Она допила вино.
– Полегче, Эстелль. Это не помогает.
– Я же говорю – я не пью. Просто нужно было сбежать из дома.
От бильярдного стола донеслись какие-то вопли.
– Требуется мое присутствие, – сказал Тео. – Извините. – И он стал пробираться сквозь толпу к двум мужикам, уже изготовившимся к драке.
Эстелль поманила Мэвис и попросила налить еще, потом повернулась и стала смотреть, как Тео восстанавливает мир. Сомик Джефферсон пел грустную песню о старой курве, которая его обидела. Это я, подумала Эстелль. Старая никчемная курва.
* * *
Самолечение начинало действовать к полуночи. Большинство посетителей “Пены” сдались и начали хлопать и подвывать в такт блюзам Сомика. Довольно многие сдались и отправились по домам. К закрытию в баре осталось лишь пятеро, а Мэвис довольно похмыкивала над полным ящиком кассы. Сомик Джефферсон отложил свой стальной “Нэшнл” и подтянул к себе двухгаллонную банку из-под маринованных огурчиков, куда ему складывали чаевые. Через край пересыпались долларовые купюры, по дну ерзала мелочь, а в середине тут и там на воздух просились пятерки и десятки. Даже двадцатка мелькнула, и Сомик нырнул за ней, как ребенок за сюрпризом в коробку крекеров. Он отнес банку к стойке и грохную ею рядом с Эстелль. Та восхитительно, красноречиво не вязала лыка.
– Эй, девочка, – обратился к ней Сомик. – Нравится блюза, да?
Эстелль пошарила глазами в воздухе в поисках источника вопроса, точно тот мог исходить от ночного мотылька, нарезавшего спирали вокруг лампочки над баром. Наконец взгляд ее успокоился на блюзмене, и она произнесла:
– Вы очень хорошо играете. Я уже собиралась уходить, но музыка понравилась.
– Ну, вот ты и осталась, – подытожил Сомик. – Погляди-ка. – Он потряс банкой с деньгами. – У меня тут поболе двух сотен набралось, а вон та хрычовка мне еще, наверно, столько же должна. Что скажешь – может, прихватим пинту, да гитару мою, да двинем на пляж? Отметим?
– Я лучше домой пойду, – сказала Эстелль. – Мне утром нужно рисовать.
– Так ты художница? Я никогда себе художницу не знал. Так что скажешь – может, все-таки на пляж, рассвет встретим?
– Не то побережье. Здесь солнце над горами восходит.
Сомик расхохотался.
– Видишь, значит и ждать не нужно. Давай с тобой тогда просто на пляж пойдем?
– Нет, не могу.
– Потому что я черный, да?
– Нет.
– Потому что я старый, правильно?
– Нет.
– Потому что я лысый. А тебе не нравятся лысые старики, верно?
– Нет, – ответила Эстелль.
– Потому что я музыкант. А ты слыхала, что мы безответственные, ведь так?
– Нет.
– Потому что втарен как бык, наверно?
– Нет! – сказала Эстелль.
Сомик снова расхохотался.
– Но ты же все равно не откажешься об этом по всему городу раззвонить, правда?
– Откуда мне знать, как вы втарены?
– Ну, – ответил Сомик, сделал паузу и ухмыльнулся, – можно сходить со мной на пляж.
– Вы – гадкий и липучий старый козел, правда, мистер Джефферсон? – спросила Эстелль.
Сомик склонил перед ней сверкающую лысину.
– Поистине, мисс. Я поистине гадок и липуч. И я слишком стар, чтобы доставлять людям хлопоты. Это я признаю. – И он протянул ей длинную сухую руку. – Пойдем на пляж и там хорошенько отпразднуем.
Эстелль показалось, что сам сатана водит ее вокруг пальца. Под этой шершавой старой и бесприютной шелухой чувствовалось что-то гладкое и упругое. Ведь именно такая темная тень всплывала из прибоя на ее картинах?
Она взяла его руку.
– Пошли на пляж.
– Ха! – ответил Сомик.
Из-под стойки Мэвис вытащила свою “Луисвилльскую Дубину” и протянула Эстелль:
– На, может, с собой прихватишь?
* * *
Они нашли в скалах нишу, закрытую от ветра. Сомик вытряхнул из черно-белых башмаков песок и потряс носками, разложив их сушиться.
– Подло меня волна прихватила.
– Я ж тебе говорила – сними ботинки, – сказала Эстелль. Все это забавляло ее – она не имела права так радоваться жизни. Несколько глотков из пинты Сомика не дали дешевому белому скиснуть у нее в желудке. Ей было тепло, несмотря на пронизывающий ветер. Сомик, напротив, выглядел довольно уныло.
– Никогда мне океан особо не нравился, – сказал он. – Слишком много там подлых тварей. От них только мурашки по коже и больше ничего.
– Если тебе океан не нравится, чего ж ты меня сюда позвал?
– Тот длинный мужик сказал, что тебе нравится картинки на пляже рисовать.
– У меня в последнее время от океана тоже мурашки по коже. В моих картинах стало больше тьмы.
Длинным пальцем Сомик смахнул песок со ступни.
– А ты блюз нарисовать сможешь?
– Ты когда-нибудь видел Ван-Гога?
Сомик обвел взглядом море. Три четверти луны плескались в нем, как ртуть.
– Ван-Гог... Ван-Гог... скрипач из Сент-Луиса?
– Он и есть, – ответила Эстелль.
Сомик забрал у нее пинту и усмехнулся.
– Девочка, ты хлещешь у мужика пойло да еще и лжешь ему. Я знаю, кто такой Винсент Ван-Гог.
Эстелль не смогла вспомнить, когда в последний раз ее называли девочкой, но была уверена, что тогда ей это и наполовину не понравилось так, как сейчас.
– А теперь кто лжет? Тоже девочка?
– Знаешь, под этим твоим свитером с халатом девочка еще запросто может оказаться. Но опять же – я могу и ошибиться.
– Кто знает?
– А я? Вот – смотри, какая грустная. – Сомик взял гитару, прислоненную к камню, и тихо заиграл под шум прибоя. Он пел о мокрых башмаках, о том, как вино уже плещется на донышке, и о ветре, пробирающем до самой кости. Эстелль прикрыла глаза и медленно покачивалась под музыку. Давно уже ей не было так хорошо.