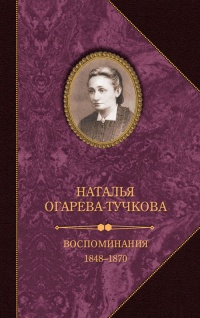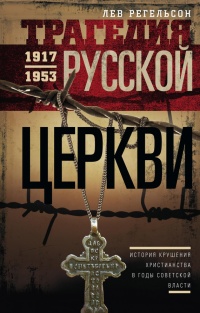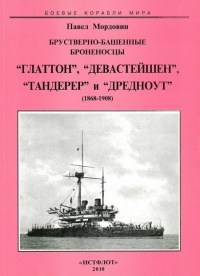Книга Последний венецианский дож. Итальянское Движение в лицах - Лев Мечников
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Вечером, 22-го марта, площадь св. Марка представляла действительно великолепное зрелище: фасады зданий были увешаны трехцветными фонарями; множество национальных знамен развевались везде, где только был какой-нибудь шпиц или палка. На гауптвахте и под дворцом дожей, вместо кроата со вздернутым носом, стоял очень красивый венецианец в новом с иголочки мундире и с золотой часовой цепочкой по борту форменного сюртука. Среди торжественных возгласов, многие по привычке обращали с беспокойством на него свои глаза, но вид юного часового джентльмена успокаивал их совершенно. Толпы канарреджиоттов ходили по площади, по соседним переулкам с трехцветными знаменами, с гитарами, громко пели национальные песни и кричали виваты кому вздумалось. Говорят даже, что в эту достопамятную ночь не было украдено ни одного платка из кармана во всей Венеции и не произошло ни одной драки между гондольерами, – вот до чего может доходить народный энтузиазм в подобные минуты.
Манин сразу из смиренного адвоката ставший диктатором республики, ушел скоро очень домой, но имя его долго повторялось на площади. В сущности ему еще не было предоставлено никакой власти, да и вообще никто еще не сделал никакого распоряжения на будущее время; никому, однако же, и в голову не приходило сомневаться в том, что Манину предстоит играть очень видную роль в последующих событиях, и он не был таким человеком, чтобы отказаться от предлагаемых почестей. Некоторые из его врагов приписывают чисто случайности и его навязчивости особенную популярность, которой он пользовался в это время в Венеции. Это, однако же, совершенно несправедливо: если в прошедшей деятельности Манина не было ничего оправдывавшего слепое доверие к нему народа, если арсеналотти действительно только потому призвали его стать во главе их, что не было другого имени, хотя сколько-нибудь известного, и самое имя Манин было им больше известно по дожу 1797 г., то после всего этого, Манин успел уже сделать достаточно для того, чтобы иметь право рассчитывать на содействие народа, по крайней мере в это время энтузиазма.
Я говорю о провозглашении республики св. Марка. Передовые люди венецианского движения почти все, без различия политических оттенков, сильно склонялись на сторону присоединения к Пьемонту в виду принципа итальянского единства и той помощи, которую в случае нужды мог оказать им Карл-Альберт[55]. Ломбардия за миланскими Пятью днями присоединилась к Пьемонту и требовала только законодательного собрания для того, чтобы издать новый статут для соединенного королевства. В Венеции, как я уже говорил, было много желавших последовать ломбардскому примеру. Сам Мании был приверженцем унитарных идей и поддавался скорее на сторону Пьемонта, чем Мадзини, и вероятно немногие из его приятелей и политических друзей ожидали такого исхода революции, какой сам он дал его потом на площади св. Марка. Что заставило Манина решиться на эту несколько несообразную с его прежним направлением меру – угадать нетрудно. Предполагать, чтобы он с первого разу понял выгоды, которые могла извлечь и Венеция, и вся Италия из существования в этом отдельном уголке полуострова независимой республики – было бы, мне кажется, не основательным. Мании, и до революции, и после, – был очень обыкновенным смертным, хорошим адвокатом и практическим человеком – не больше. До тех пор, пока исключительно он руководил революцией, она была более похожа на процесс, на тяжебное дело, чем на народное движение; с чего же предполагать, что в нем вдруг, как бы по вдохновению свыше, появились блистательные качества политического деятеля: гениальный ум, способный предвидеть очень отдаленное будущее, и в такую минуту, когда настоящее поглощает все способности обыкновенных людей.
Другие видят в этом проявление его ненасытного честолюбия: с тех пор, как арсеналотти избрали его своим главою, он мог быть уверен, что при республиканском образе правления будет играть слишком значительную роль, которая вряд ли удалась бы ему при немедленном присоединении республики к Пьемонту.
Всякие предположения по этому поводу совершенно лишни, так как все дело объясняется удовлетворительно и без них: с тех пор, как народ сделал все дело, Манин не имел возможности поступить иначе.
Не заходя слишком далеко в историю, – со времени братьев Бандьера, Венеция привыкла много слышать, а потом и сама говорить о единстве Италии, конечно, не понимая хорошенько самой сущности дела. Затем, благодаря новому сближению цивилизованного класса народонаселения с чернью и посредству выгнанных из Падуи студентов, идея итальянской национальности стала иметь смысл и для них. Крик: «да здравствует Италия!» неоднократно раздавался на площадях во время демонстраций; сочетание цветов зеленого, белого и красного (итальянское знамя) встречалось с восторгом.
Народ хотел единства Италии; интересно только знать, в какой форме? Симпатизировать пьемонтскому правительству он не мог, точно так же, как и ни одному из существовавших тогда в Италии правительств. Да наконец, венецианцы просто не хотели отказаться от своего крылатого льва, он им стал слишком дорог: во время сурового владычества наполеоновской республики и затем тяжелого австрийского деспотизма они успели забыть последние века правления Великого Совета, а воспоминания счастливых времен все живее воскресали в их памяти.
В жизни народа вообще суеверия, в особенности связанные с приятными воспоминаниями прошедшего, имеют несравненно большее значение, нежели это думают; в Венеции больше чем где-либо. Тамошние герои 48-го года вовсе непохожи на суровых римских республиканцев, на приверженцев Мадзини, смотрящих на политический переворот, как на религиозное дело, жаждущих высоких добродетелей. До добродетелей венецианцам мало дела: они хотят только хорошо и весело прожить свой век.
Отвыкши с давних пор от политической жизни, они не требовали для себя никакого участия в общественных делах, они даже того только и добивались, чтобы свалить на чьи-нибудь плечи всю эту докучную обузу, а самим остаться в стороне, строго разбирать действия новых администраторов, смеяться над ними вдоволь – одним словом, поставить их на положение актеров, а себя на положение публики; но понятно, чтобы эти актеры не позволяли себе с ними никаких излишних вольностей. Все эти выгоды когда-то соединяло в себе правительство св. Марка, и им для полного спокойствия необходимо было, чтобы и новое носило ту же форму; а что оно будет в сущности – об этом они не много заботились.
Мании, как природный венецианец, не мог не знать этого существенного направления своих соотечественников; не мог не понимать и того, что 22-го марта именно чернь господствовала и что, следовательно, законность в том смысле, в каком понимал ее он, была в опасности. Рассчитывая на то, что торопясь насладиться всеми прелестями освобождения, они не будут особенно требовательны в этот первый день, и что кроме того несравненно безопаснее дать им carte-blanche и не противоречить им ни в чем в этот первый день, чем рисковать оставить им власть на бесконечное время – он решился исполнить или даже предупредить все их желания. Нечего и говорить о том, что в его положении не только колебаться, но даже неосторожным намеком выказать, что его стремления не вовсе сходны с народными – значило бы убить в зародыше его слишком молодую и, так сказать, слепорожденную популярность.