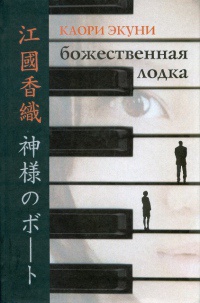Книга Язычник - Александр Кузнецов-Тулянин
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
— Танюш, — сказал он слащавым голоском.
Таня изогнулась и судорожно зарыдала, сначала беззвучно, даже не закрывая лица, не пряча истеричных гримас, и все пыталась втянуть в грудь воздух, но будто не могла разорвать налипшую на лицо пленку… Витек же бубнил:
— Танюш, ты чего, Танюш?..
И вдруг ее прорвало — хлынули и слезы, и стоны, и придушенный крик:
— Урод!.. Урод ты!.. Иди отсюда! — Зажигалка погасла, Витек принялся вновь щелкать кремнем, и в темноту, в эти вылетающие из чужих пальцев искорки Таня пихнула что есть силы обеими ногами. — Урод! Гад! Иди отсюда!.. — Витек запутался в занавеси, неуклюже вывалился в комнату. Таня уселась на постели, сквозь слезы вымыкивала: — Бо… Боже…
— Я не хотел, я не знал… — испуганно говорил Витек.
— Боже мой… Урод! Я чуть не умерла от страха…
— Да я же… — твердил он из комнаты и, наверное, боялся теперь сделать шаг, а может быть, уже готов был бежать.
— Да что ты!.. Балбес! У меня сердце чуть не остановилось…
Она все-таки перестала кричать и дала волю слезам, которые собирались в ней, кажется, много лет, а теперь разом решили излиться. Под спудом своего плача она припоминала, что, и правда, не плакала вот так, совсем раскрепостившись, вволю, уже очень давно и что, может быть, еще не было в ее жизни ни дня, ни ночи, когда б она так от души плакала. Ну, могла всплакнуть, похныкать, но чтобы так слезопадно — не помнила, когда. Теперь ей все разом припомнилось, выперлось из памяти и купалось в ее плаче: и что молодость уходит, да уж, можно сказать, что ушла, и что бездетная она баба, и нет у нее ни мужика, ни родных, ни подруг, и пользуется ею любой, а теперь и дома у нее нет, и живет она в конуре, как бесхозяйская собака, и все так мерзко и тускло, что впору бы влезть в петлю или выпить уксусу.
Она сбросила одеяло, запахнула потуже халатик, босая, вышла на улицу мимо оторопевшего Витька. Села на порожек, откинула голову, закатила глаза и все еще громко хлюпала носом, вздрагивала, не имея сил унять дрожь. Витек вышел следом, встал над ней, испытывая страшную неловкость, и сверху он видел ее лицо, которое она не думала прятать, белое и ровное в темноте, и на нем совсем не было заметно слез.
— Как же вы надоели мне все…
— Да я… — промямлил он.
— Что ты заладил: «да я, да я»…
Он пожал плечами:
— Я не хотел… Я тебя боялся позвать… Боялся испугать…
— Ох, балбес, что за балбес… Не могу больше, не могу… А ну-ка дай мне закурить… Ну! Дай сигарету. — Он растерянно полез в карман, протянул сигарету, зажег огонек, и теперь она, прежде чем приблизить лицо к огоньку, сказала: — Не смотри на меня…
Но он не смотрел, он и без того прятал глаза. Она прикурила и стала глубоко затягиваться, чувствуя, как с дымом смягчается ее напряжение, растворяется в теплом слезливом безволье. Она сделала несколько затяжек, и дым стал ей противен, она, не зная, куда деть еще слишком длинный окурок, машинально протянула ему, он взял и тоже стал курить, чувствуя, как влажен от ее мокрых губ фильтр. И это было спасением для него: курить, пряча необходимость говорить, он опустился рядом на порожек — так что плечом коснулся ее плеча, и она, закрыв лицо ладонями, невольно подумала, что это его как бы нечаянное прикосновение где-то уже бывало ею почувствовано, но прочувствовано, оценено не было — где-то, может быть, в юности, из которой Таня неловко упустила все те застенчивые, наивные ужимки и недомолвки. Она подумала с тоской, что как же так опрометчиво она сразу стала взрослой, опытной бабой, не испытав тех мучительно-сладких движений души, которые совершенно задаром даются человеку. Но она уже успокаивалась, она смотрела искоса на Витька, на вспыхивающую сигаретку, на то, как смешно он прячет в огоньке свою сосредоточенную неловкость. Она осторожно вытащила двумя пальцами ставшую совсем короткой сигаретку из его рта и еще успела немного хватануть дыма, а потом бросила окурок под ноги и долго расслабленно смотрела, как упрямо тлеет красноватый глазок…
— Ну и что ты хочешь? — спросила она.
— Да я… — пожал он неловко плечами.
— Конечно, «да я», — кивнула она. — Ты, наверно, другого и говорить не умеешь.
— Прости…
— Хорошо, тогда я скажу… Я ведь старая тетка для тебя…
— Ты не старая…
— Молчи, я знаю, что говорю, я на десять лет тебя старше.
— Ну и что…
— Молчи… Скажу я… — Но она не сказала сразу — задумалась, опустила голову и все не говорила, потому что оказалось, что она, несмотря на свою решимость, все-таки не знала, что сказать.
— Я тебя боялся испугать и все равно испугал… — промямлил он, но она перебила его:
— Молчи… Я подумала… Я подумала, если ты останешься у меня, то все это обернется как-то так… Не так… Неправильно… Я не знаю, но все это будет не так, как хочется…
— Плохо?..
— Нет, не плохо… наверное, не плохо… Но все это тяжело… я не знаю… И может быть, лучше не надо тебе у меня оставаться…
— Почему тяжело? — обиженно спросил он.
— Не сейчас… Когда ты… очнешься… Ведь мы с тобой, как с разных планет… Ведь кто я такая, ты подумай, что говорят обо мне… И ведь правду говорят…
— Мне плевать, что там говорят.
— Ох, Витенька. Это ты сейчас так, а ведь придет час, и… все кончается, поверь мне, я знаю…
Но он вдруг повернулся к ней и положил ладонь на ее губы.
— Я все равно останусь…
И она сразу — вся, маленькая, сжавшаяся, целиком оказалась в его больших руках. Его губы судорожно и будто неумело начали прикасаться к ее мокрому от слез лицу, влипая все глубже в щеки, в глаза, в ее губы. Она сбивчиво дышала, но и он сам будто задохнулся от внезапного необычного ощущения, что все в ночном мире за спиной вдруг перестроилось, обрело беззвучное движение, будто стали летать странные призраки с пристально устремленными на них глазами. А между ними… между ним и женщиной мельче и жиже становилось пространство, оно, как воск, стекало куда-то, и сам он превращался в воскового, мягкого, смешиваясь с ее мягкостью, с ее прикосновениями, поцелуями, запахами, и он все больше глох и слеп, и ночная бездна теперь уже вся шла крэгом, весь мир сворачивался в сгусток и входил внутрь горячей живой женщины, умещая в ней, в ее маленьком неистовом теле весь свой громоздкий смысл…
Под утро в тишине родился слабый шум, будто много народа, уставшего и молчаливого, мерной поступью шло в высокой траве, и Таня расслабленно сквозь дрему слушала этот шорох, не пытаясь разгадать его природу, пока первые звонкие шлепки дождя косо не ударили по натянутой в боковом окне пленке.
— Дождь, — шепотом сказала она, еще не открыв глаз. — Сейчас крыша опять потечет, как сито.
Витек не ответил, он бродил во снах, ткнув большое теплое лицо ей в шею, обдавая ее влагой дыхания. Она одна слушала беспокойный дождевой перестук. И постепенно в ней стало возникать ощущение, что крупные капли летят с небес, как живые — столько было немощного в шорохе и чавканье падающей воды. Витек заворочался, и она со щемящей нежностью прислонилась щекой к его по-мальчише-ски спутанным волосам. К ней вдруг прихлынуло теплое чувство, которого она не могла знать, и теперь, даже почувствовав щемящее тепло материнства, не поняла его, а просто приняла, как есть, не вдумываясь.