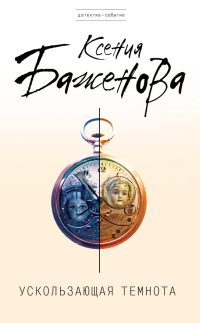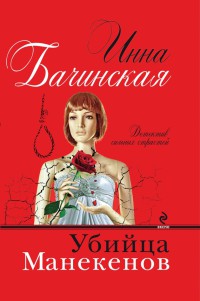Книга Дездемона умрёт в понедельник - Светлана Гончаренко
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
— Через месяц, — поправила Лена.
— Может быть. Недолго музыка играла. Мы «Царем» в сентябре сезон открывали. В пьесе-то сто ролей, а труппа у нас маленькая. Всех на сцену выгнали, даже монтировщиков. Монтировщики еще кое-как держатся, а актеры, что ни месяц, меняются, уезжают — текучка страшная! Роли в стихах не успевают заучить, как уж увольняться надо. Стали, конечно, текст резать, сцены выбрасывать. Из боярской Думы вообще один Юрочка Уксусов остался.
— Боярин в малиновом пиджаке? — не поверил Самоваров.
— Ну нет, тут даже ему шубку сшили. Плохонькую, правда, сатиновую с цигейковым воротником. А текст до того дорезали, что непонятно стало, в чем там дело. Так «Царя» через месяц и закрыли. Мумозин его с репертуара снял, и — дело-то к зиме — стал шубы списывать: себе енотовую, жене песцовую, дочке, что в Нетске на юристку учится, лисью, племяннице — хонориковую полудошку. Всю родню одел. И шапки в ход пошли.
— Да-да-да! — Самоварова снова осенило тошнотворным воспоминанием. — Видел я вчера в театре Мумозина в какой-то очень странной шапке. Я думал, мне померещилось.
— Точно, она, царская шапка, — подтвердил Вовка. — И шубы у Мумозиных обоих царские, до пят. Пуговки под зернь, петли из адъютантского шнура. Психологический театр.
Лена сидела у окошка и сметывала что-то огромное и серое. Она старалась брать работу на дом, чтобы обихаживать беспомощного Вовку. Она очень напоминала тропининскую кружевницу — и шитьем своим, и румяным круглым лицом — хоть сейчас на конфетную коробку. Счастливец Вовка! Сунула она нитку в зубы, чтоб перекусить, да так и замерла, застигнутая внезапной мыслью. Когда эта мысль перемололась и улеглась у нее в голове, она твердо заявила Самоварову:
— Зря вы, Коля, уезжать собрались. Деньги ваши верные.
— Откуда такая убежденность? Мне что-то Мумозин доверия не внушает, — усомнился Самоваров.
— Верное, верное дело! — воскликнула Лена. — Сдается мне, что с этой мебелью Мумозин такой же финт задумал, как с шубами. Он ведь большую квартиру получил: вкрутил мэру, что не может крупный театральный руководитель иначе жить, кроме как в пяти комнатах. Вот захотел даром мебелью обставиться. Да не простой, а резной.
— Это мысль! — согласился Вовка. — Негру шекспировскому и Матвеич с Михалычем стулья срубили бы, но художественному руководителю в шапке Мономаха… Колян, не горюй! Будут, будут спонсоры! Выдавит он деньги из кого-нибудь! Выбил же из мебельной фабрики в поддержку реализма диваны-кровати! Видал, сколько их у нас? То-то! Для своей квартиры он всех на уши поставит! К самому Кучумову пойдет!
— Этого имени не произноси при мне! — взмолился несчастный зеленолицый Самоваров. — Ваш Кучумов меня вчера чуть со свету не сжил своей водкой.
— Рассольчику выпейте! — забеспокоилась Лена.
Кульковский воодушевленно кричал:
— Нет, это мысль! Уехать и завтра успеешь! Сходи еще разок в театр, подуши Мумозина: давай, мол, договор! Я тебе, Самовар, обещал, что заработаешь — и ты заработаешь.
Душить Мумозина Самоваров отправился к вечеру, когда весенний розовый закат стыл уже и серел. Растоптанные тротуары с грязным, похожим на кофейное мороженое снегом, затвердели на ночь. Ушуйский драматический театр как раз воссиял огнями. В служебных его коридорах сновали вечерние люди — появились актеры, костюмерши тащили вороха грубо размалеванных по трафарету юбок. «Судя по диким орнаментам, сегодня дают что-то испанское», — решил Самоваров. Дневные же люди театра запирали свои комнатки и с удовольствием шли домой. Матвеич с Михалычем тащили каждый по оконной раме, сработанной из выписанных под «Отелло» материалов. Где-то в недрах сцены орал вечный Эдик Шереметев.
Кабинет Мумозина был заперт. Самоваров с мстительным задором подергал дверную ручку и уже приготовился нанести пинок дерматиновой обивке, как приоткрылась дверь напротив.
— Вы Самоваров к Мумозину? — спросили из двери. — Заходите сюда, пожалуйста.
Самоваров вошел. В этой комнате, как и у Мумозина, стоял стол, но фотографии на стенах висели женские.
— Я Шехтман, — представился хозяин кабинета. — Буду ставить сказочку — «Принцессу на горошине» — и хочу передать вам текст пьесы для художника.
Он протянул Самоварову пачку листков, испещренных небрежно скачущей машинописью. Самоваров слышал, что Шехтману за шестьдесят, но на вид он дал бы ему все сто. Пышная седина, усы и морщины делали его похожим на популярный портрет Эйнштейна.
— У нас, конечно, не столица, даже не Нетск, — сказал Шехтман, — но мы попытаемся сделать достойный детский спектакль.
Самоваров вздохнул:
— Да, я слышал. Глубокий и целомудренный. Не дороже трех рублей.
— Ну, зачем вы так! — обиженно протянул Шехтман, узнавший, видимо, мумозинские словечки. — Конечно, у нас сейчас специфическое направление, но есть хорошие традиции, есть актеры…
— И принц предпенсионного возраста, — бестактно ляпнул Самоваров. Воспоминания о кучумовке его еще мучили, и он был настроен недружелюбно.
— Как вы зря! — еще больше обиделся Шехтман. — Гена, то есть, Геннадий Петрович, даровит, он справится. Ему сейчас тяжело, семейная драма… и работы очень много … Что вы! У нас есть неплохие актеры! Да вы знаете, что у Леонида Кыштымов Щукинское училище?.. Вы смотрели у нас что-нибудь?
— «Последнюю жертву» вчера. Не до конца, правда.
— Значит, и Танечку Пермякову видели? Чудо в нашей глуши, не так ли?
— По правде сказать, я не театрал, плохо разбираюсь. Так что не слишком потрясся.
Седины Шехтмана стали дыбом, как у дикобраза, и он вскрикнул:
— Как? Вы видели Таню, и..? Да совсем не нужно быть театралом, чтобы… Нет, этого не может быть! Наверное, вы сильно влюблены в кого-то, если Таня вас не поразила.
— Я ничего плохого не хотел сказать, просто…
— Таня — удивительная актриса. У-ди-ви-тель-ная! — Шехтман не только не захотел слушать Самоварова, но даже и смотреть на него. Он сердито, не глядя на страницы, пролистал какую-то книжку. — Это такой талант! Да знаете ли вы, что московский режиссер Горилчанский у нас «Нору» ставил. К сожалению, Мумозин закапризничал, и работа не состоялась… Горилчанский — это авторитет! Он многое повидал! Так он…
— Да, я слышал, он в восторге.
— Вот видите! Разве ей здесь место? Ее большое будущее ждет, ей уезжать надо в Москву, я сто раз говорил и помощь обещал — у меня ведь сын в Москве. Но она все по-своему делает! И себе во вред!
Самоваров поймал паузу и спросил:
— А Мумозин где?
Шехтман накинулся на него:
— К чему вам Мумозин? Что может дать вам Мумозин? Посмотрите его спектакли — это же убожество! Та же «Последняя жертва»! Ему место в жэковской самодеятельности, да и там сантехники перемрут со скуки. Вы говорите, Мумозин? Мумозин — это синоним чудовищного вкуса! И самомнения! Да вы знаете, что он в юбилей тут Пушкина играл в своей бороде?! Вы себе представляете Пушкина с бородой?