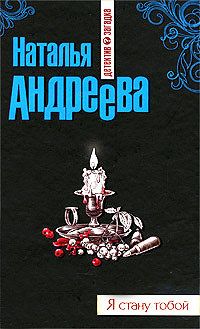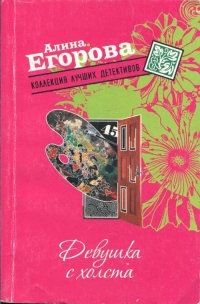Книга Боль - Маурицио де Джованни
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Роза почувствовала прилив материнской нежности к комиссару: ест с таким сосредоточенным видом, словно ребенок. Он любит фасоль с детства.
На самом деле Ричарди терпеть ее не мог, но не хотел огорчать няню. К тому же в этот вечер проголодался, возможно из-за холода, который все еще пронизывал его до костей.
Комиссар вспомнил о том, что видел на месте преступления. Если пальто и шарф принесены в гримерную после смерти Вецци, кто их принес? И почему? После преступления в эту комнату были допущены только директор сцены Лазио, начальница портних синьора Лилла и девушка-швея. Подбирая соус куском хлеба, Ричарди вспомнил, с каким восхищением воинственная дородная Лилла смотрела на директора сцены. Может быть, эти двое сговорились между собой? Или маленькая портниха по фамилии Эспозито заодно с ними? Нет, слишком много людей. И слишком много крови, значит, совершенно ясно, убийство не планировалось. А открытое окно? А маленькая полосатая подушка? Столько вопросов, а его второе зрение ему не помогает. Такое случалось часто, ощущения жертвы, которые улавливал комиссар, могли направить его по ложному пути и привести к ошибке. Ведь это не сознательно составленные сообщения, а чувства — страдание, гнев, ненависть и любовь тоже.
Он выпил стакан красного вина, потом еще стакан. После каждой новой встречи с чьей-то смертью комиссар с трудом засыпал. Он чувствовал странную дрожь в груди, словно ждал чего-то. Может быть, это страх перед собственной смертью? Боязнь своей последней минуты? Хотя чего бояться? Пока ты жив, смерти нет, а когда она есть, тебя больше нет. «Но человек встречается с ней», — сказал он однажды в семнадцать лет одному иезуиту в колледже. «Да, но дальше — Бог», — ответил тот.
А есть ли Бог? Осушая глоток за глотком свой стакан, Ричарди вспомнил странного священника, с которым встретился в театре. Кажется, он хороший человек. И тоже считает, что Бог есть. «А где мой Бог, когда я вижу образы боли и чувствую ее эхо? Я один должен успокаивать эту боль?»
Ричарди поднялся из-за стола. Надо встать, иначе няня всю ночь проведет здесь, глядя, как он пьет, и даже не начнет убирать со стола. Он нежно поцеловал ее в лоб и пошел в спальню, где его ждала та встреча.Белокурая женщина шла вдоль стен площади Каролина в сторону улицы Дженнаро Серры. Холодный ветер с моря толкал ее в спину, но она не торопилась. Остальные немногочисленные прохожие спешили скорее оказаться в своих теплых домах. А она, в отличие от них, не имела никакого желания стоять под взглядом, который проникал внутрь ее, в поисках спрятанных чувств.
Она хорошо научилась скрывать свои чувства, прятаться. Нельзя, чтобы все открылось и все узнали, что произошло. Она все медленнее шла вперед в слабом свете фонарей и чувствовала на себе руки своего любовника. Вспоминала его лицо, голос, частое дыхание. Думала о словах, которые они говорили друг другу, о планах и обещаниях. «Как такое могло случиться?» — спрашивала она себя. И как ей теперь скрыть от мужчины, что она любит другого и мечтает уйти от него с тем, другим?
Женщина провела ладонью по лицу, под шляпой, скрывавшей ее прекрасные глаза. Да, она плачет. Надо держать себя в руках, она слишком близко к дому. Перед ее глазами уже мелькнула темная громада церкви Санта-Мария дельи Анджели, которая высится в верхней части холма Пиццофальконе.
Скоро она предстанет перед мужчиной, который любит ее настолько сильно, что понимает, о чем она думает. Она раскаивалась, страдала из-за него и из-за своего предательства. Она должна сделать так, чтобы никто не узнал правду. Должна защитить его от позора.
Женщина ускорила шаг и снова спросила себя: что же произошло?Ричарди закрыл за собой дверь спальни. Так он поступал каждый вечер, а перед тем, как лечь в постель, снова приоткрывал, чтобы услышать тяжелое дыхание няни Розы и убедиться, что та послушалась его и отправилась спать. Он переоделся в халат, натянул сетку на волосы и погасил свет. Подошел к окну и раздвинул занавески. Небосвод был так чисто подметен сильным северным ветром, что блестел, как зеркало. В этом ясном небе сияли четыре ярких звезды, но комиссар хотел, чтобы на него падал не их свет, а слабый луч лампы, стоявшей на столике в окне соседнего дома напротив его окна. Столик рядом с креслом, в кресле молодая женщина что-то увлеченно вышивала. Это был ее личный уютный уголок в большой кухне. Ричарди уже знал, что зовут соседку Энрика и она старшая из пяти детей в семье, а их отец торгует шляпами. Одна из сестер Энрики уже замужем, имеет маленького сына и живет с мужем в том же квартале. Да, семья у них большая. Девушка вышивала левой рукой и была погружена в свои мысли. На ней очки в черепаховой оправе. Еще Ричарди знал, что она слегка наклоняет голову, когда на чем-то сосредотачивается. И движения у нее плавные и изящные, хотя, беседуя с кем-нибудь, она не знает, куда деть руки. И она левша. Кроме того, она иногда смеется, когда играет с маленькими братьями или с племянником. А иногда плачет, когда находится одна и думает, что ее никто не видит.
Не проходило и вечера, чтобы комиссар не подходил ненадолго к окну, становясь на время отражением жизни Энрики. Это тот единственный вид отпуска, который он позволял своей израненной душе. Он видел ее за ужином, слева от матери, спокойную и любезную с родными. Видел, как она слушала радио, тогда ее лицо выражало сосредоточенность и внимание. Как она слушает пластинку через монументальный граммофон — с восторгом и намеком на улыбку. Как читает, наклонив голову и облизывая палец языком, когда надо перевернуть страницу. Спорит с другими, спокойно и упорно отстаивая свою правоту.
Ричарди ни разу не говорил с ней, но был уверен, что никто не знает Энрику лучше, чем он.
Он никогда бы и не подумал, что это случится. Однажды в воскресенье няня не смогла купить зелень с тележки у торговца с Каподимонте, и Ричарди пошел сам, повернулся, чтобы идти назад с пучком брокколи под мышкой, и оказался лицом к лицу с Энрикой. Он до сих пор вздрагивал, вспоминая странное чувство, которое испытал тогда, — смесь удовольствия, смущения, радости и ужаса. Потом он сотни раз видел перед собой в полудреме — перед тем, как уснуть, или сразу после пробуждения — эти глубокие черные глаза. Он тогда убежал, но сердце прыгало у него в груди, а удары крови отдавались громким стуком в ушах. Бежал, роняя по пути брокколи, прикрыв глаза, чтобы удержать в памяти эти длинные ноги и намек на улыбку, который, кажется, увидел мельком.
«Разве я могу заговорить с тобой? Что я могу дать тебе кроме страданий из-за того, что ты постоянно будешь видеть меня измученным?»
Энрика внутри маленького конуса света продолжала вышивать, ничего не зная о мыслях и чувствах комиссара.
Перед тем как погрузиться в сон, Ричарди еще раз вспомнил паяца и его полную отчаяния последнюю песню: «Я хочу крови, даю волю гневу, ненавистью закончилась вся моя любовь»…
Что может заставить человека петь в последнюю минуту жизни? Вецци готовился выйти на сцену и повторял свою партию. И почему он плакал? Ричарди хорошо помнил след от слезы на гриме.
А может быть, певец плакал от какого-то чувства, которое навеяла эта опера? Но если так, от какого? Что особенного в этом представлении? И почему через час после начала спектакля исполнитель главной партии еще только накладывал грим?