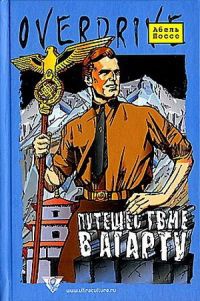Книга Наблюдающий ветер, или Жизнь художника Абеля - Агнета Плейель
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
– Истинная правда, – хохотал дедушка.
В другой раз он и Калькон пошли охотиться на тигра. Калькон выслеживал в кустах добычу, но вскоре вылетел оттуда пулей. Тигр мчался за ним по пятам с разинутой пастью, в которой торчала палка.
– Бедняга Калькон, – качал головой дедушка. – Он уже думал, все кончено. А знаете, что я сделал? Я выпрыгнул из-за соседнего куста и сунул в пасть тигру палку. И Калькон остался цел.
– Цел? – Мы удивленно округляли глаза.
– Разумеется, ведь тигр не мог его сожрать, если его пасть была перегорожена палкой.
– Ты нас обманываешь.
– Ничуть не бывало.
– И где ты взял такую палку?
– Это было мое ружье.
Дедушка давал нам уроки рисования. Его это страшно забавляло. В одном из сундуков он отыскал книгу в коричневом переплете: «Рисунок. Изображение разных пород деревьев». Это пособие, автором и иллюстратором которого был отец дедушки, маринист, рекомендовали даже студентам Академии изящных искусств.
Книга учила внимательности к деталям. Каждое дерево изображалось во всей своей уникальности: осина, береза, липа, ива. Я лежала на ковре рядом с дедушкиным зеленым креслом и разглядывала немые деревья на страницах учебника. Настоящие имели каждое свой голос. Ветер, объяснял дедушка Абель, шепчет по-разному в кронах ольхи и осины.
– Породы деревьев различаются особенностями светотени и шелестом ветра в кронах, это надо понимать тому, кто хочет рисовать лес, – говорил дедушка.
Он сидел в кресле возле радиоприемника, закинув ногу на ногу. На столе стыл кофе. Дедушка ждал новостей о войне в Корее, попутно рассуждая о живописи.
Я расспрашивала его о яванских женщинах. Какие они, красивые? Дедушка отвечал, что с женщинами, как и с деревьями: они разные. Но на Яве они красивые. А потом добавил, доверительно наклонившись ко мне, как к взрослой:
– Можешь представить себе, каково мне было хранить чистоту все эти годы, ведь меня ждала невеста в Швеции.
Чистоту? Дедушка! Помню, как у меня отвисла челюсть. Я чувствовала, что слова дедушки открывают мне, девочке-подростку, что-то важное, но не могла понять что. При чем здесь чистота? Зачем? Фантазия рисовала мне лица соблазнительных яванок, освещенные желтым светом уличных фонарей в портовых городках Индонезии, совсем как в романах Сомерсета Моэма, которые я проглатывала в то время один за другим.
Я не посмела вдаваться в подробности. Возможно, туземные женщины были не в счет. Позже я поинтересовалась у Си, что имел в виду ее отец. Сначала она задумалась, а потом посоветовала мне понимать слова дедушки Абеля буквально. Раз он так сказал, стало быть, так оно и есть на самом деле. Тем не менее я знала, что сама Си таким объяснением не удовлетворилась и уже после смерти Абеля спрашивала мнения на этот счет своего брата. Но тот только смеялся.
В конце концов этот вопрос, как и многие другие, остался без ответа. Хотя вполне возможно, дедушка говорил правду. Во всех его творениях – непрестанных поисках красоты и гармонии – чувствовался налет эротизма. Помню дедушку склонившимся над круглым столом на стеклянной веранде. Его лицо выражало высшую степень сосредоточенности. Мыслями он был не здесь, в дальних странах или в краю своего детства и юности. Он писал, завершая таким образом свою жизнь.
Все это подводит меня к третьему мотиву его творчества: женщинам.
Сейчас у меня нет перед глазами дедушкиных картин. Я давно не видела их, лет двадцать, а может, тридцать. Я не знаю, где они, если они вообще еще существуют. Однако в воображении, как кажется, я могу воспроизвести не только их окончательный вид, но и их становление под дедушкиной кистью, мазок за мазком.
Разумеется, на самом деле это не так. Такое было бы невозможно. Дедушкины акварели живут во мне своей жизнью, и память сильно изменила их со временем. Тем не менее там они в надежной сохранности. И в таком виде акварели – единственное, что осталось у меня своего. Вероятно, ни у кого из нас ничего нет, кроме воспоминаний.
Однако и они не вечны.
Каждый раз накануне пробуждения некто М. видит один и тот же кошмарный сон: он – ребенок в бушующих волнах белого цвета. Или нет, это не волны, а белая пелена. Бесконечная белизна, простирающаяся, насколько достанет глаз.
Внезапно она начинает подниматься. Это происходит так медленно, что почти не заметно со стороны. Тут же появляется слабый неприятный звук. Пелена достигает плеч М., его подбородка, рта, глаз. Он не в силах пошевелиться. Он ничего не может сделать. Белизна его поглощает.
Звук исходит от множества аппаратов, превращающих происходящее в нескончаемый поток кадров. Они фиксируют каждое мгновение жизни, не оставляя ни малейшей возможности ускользнуть. Воспоминания исчезают медленно, словно таблетка растворяется в стакане воды. Скажи мне, что это не так. Но это правда. Белая пелена наступает.
Вот и лето прошло. Я писала не каждый день, но только когда находила на это время. Даже если это никому не нужно, я пыталась спасти хоть что-то из своей прошлой жизни. Здесь, снаружи, ветер раскачивает кроны, так что кажется, будто деревья не укоренены в земле, а парят, едва ее касаясь. Уже первый осенний шторм оставит их голыми.
Меня настигает белая пелена. Что мне остается, как не сдаться ей на милость? Что-то во мне подсказывает, что надо сопротивляться, но, честно говоря, я не думаю, что в этом есть хоть какой-то смысл. М. каждый раз просыпался с чувством обреченности. И это было ужасно, как если бы вас внезапно парализовало где-нибудь посреди улицы.
Моя жизнь утекает сквозь пальцы. Я не проявила достаточно рвения, пытаясь хоть что-нибудь сохранить. Я никогда не умела писать дневники, в том числе и в молодости. Тогда – особенно: стоило авторучке прикоснуться к бумаге, как меня настигало осознание собственной лживости. Откуда это? В чем моя ошибка? Все мы склонны ставить под сомнения наши переживания и восприятие. Нужно иметь характер, чтобы сохранить индивидуальность.
Но, описывая дедушкины акварели, я не лгу, хотя и не говорю всей правды. Я просто сопротивляюсь белой пелене. Я окликаю, воссоздаю мое прошлое, потому что боюсь себя потерять. Именно так. Только для меня все это и имеет значение. Что ж, тем лучше! Значит, мои записи нигде не будут использованы, они останутся моими. Они никогда не вольются в коллективное прошлое, чтобы стать частью валового культурного продукта.
Воспоминания, имеющие смысл только для нас самих, вероятно, и есть самые ценные. И они достойны существования как никакие другие. Обратите же внимание на мои мучительные попытки придать им общественный вес. Смотрите на меня, оседланного верблюда, силящегося пролезть через игольное ушко. Мной движет отчаяние. Я – как дерево осенью, как пробирающийся сквозь песчаную бурю верблюд.
Здесь будет уместно описать один мой недавний сон. В нем я была на вечеринке, где среди моих друзей и знакомых увидела верблюда с печальными глазами. Здороваясь, он протянул мне переднее копыто. Преисполненная состраданием к несчастному животному, я повела его домой. Опасаясь, что он поцарапает пол, чем вызовет недовольство Си, я поместила животное в большую коробку, которую водрузила в гостиной на рояль. Так верблюд и стоял там. Ему нравилось, когда кто-нибудь играл арабскую музыку. Тогда из коробки слышалось ритмичное постукивание – он танцевал.