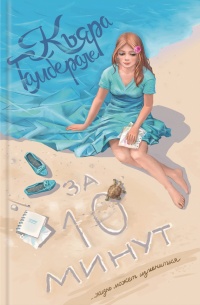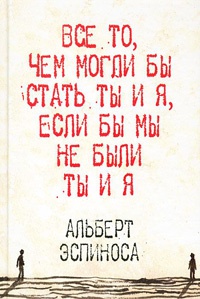Книга Кентавр VS Сатир - Андрей Дитцель
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Мы с Дэном иногда вспоминали такие истории. Это уже случалось и с ним и со мной, и никто в этой стране, если слишком много высовывается, не застрахован от этого. Когда адреналин в крови зашкаливает, боль, в общем-то, исчезает. Ты отдаёшь себе отчёт, что о твою голову разбивают бутылку, слышишь хлопок и видишь слабую вспышку — и, не чувствуя боли, ждёшь следующего удара. Угол толстой подошвы ботинка медленно приближается к лицу. Хруст во рту, ты сплёвываешь мелкую крошку зубной эмали и пломб, если она сама не стекает из уголка рта грязной красной жижицей, и ждёшь следующего удара. А что остаётся, если их трое, пятеро, десятеро… А потом лежишь и смотришь мудрыми, чудом уцелевшими глазами в небо и, представляя себя князем Болконским, слышишь прозябанье дольней лозы и гад морских подводный ход.
Преодолев головокружение, я открываю дверь ванной. Рвота до полного изнеможения. Хватает сил налить на кухне стакан воды и доковылять обратно в постель. Ещё несколько часов бессонницы. И лишь когда в комнате становится светло, я засыпаю и вижу неспокойные сны. Я гуляю где-то по облакам, поскальзываюсь, не могу удержать равновесие и с огромной высоты падаю на серый город, чтобы вот-вот разбиться о крыши с уродливыми, растопырившими свои щупальца антеннами. Телефон вырывает меня из кошмара. Я какое-то время не могу понять, что говорит Анечка, потому что это не укладывается в голове.
Данила сегодня ночью зверски убили.
Вот мы с Анечкой подходим к гробу и не можем узнать лицо. Это воск и пудра, а не наш Данил. Конечно же ошибка, подмена… Но почему тогда здесь толпится столько людей, что здесь делают эти дети? Кладём в восковые руки Дэна плюшевые игрушки. Хранившая до этого молчание мама, скучная и тихая аптекарша, начинает что-то шептать, потом говорить в полный голос и, наконец, начинает голосить.
Дэн, Даня, мой солнечный мальчик! Я был с тобой, я почувствовал это в ту страшную ночь. И я знаю, что ты со мной. Часто я чувствую твоё присутствие и думаю, что ты радуешься или переживаешь за меня.
До встречи, Данил… Когда-нибудь облачные дорожки посыпят песком, я распутаю их лабиринт и отыщу тебя. Если ты не будешь прятаться. Но зачем тебе прятаться от меня?
У одних в шкафу пылятся скелеты, у других — сломанные куклы. Для меня не подлежит сомнению, что есть близость с человеком любимым — отношения, а есть мелкая и недостойная возня. Но наряду с этим существует и пространство неясных координат. В нём обитают, например, бывшие когда-то близкими люди, на прикосновения к которым нет блока, — иногда кажется, что на другом (глубинном или, напротив, поверхностном, не знаю) уровне коммуникации наши сущности живут сами по себе. Спрашиваешь: «Что я сейчас делаю, и я ли это?..» И на другой стороне — провода или постели: «Ну почему мы опять?» А как быть с простым и честным сексом без взаимных обязательств?
Когда мне ставят в вину половую неразборчивость, я интересуюсь у собеседника, смотрел ли он — при живой и здоровой половине, — хоть однажды порно? Ведь он наверняка — человек творческий, внутренний мир которого доминирует над несовершенством и скукой окружающих людей и предметов. Как можно беспрепятственно пускать в себя копулирующие xxx, когда твоё сознание и есть если не единственная, то самая важная реальность, твоя и твоей половины?
Иногда я получаю сообщение из одного или двух слов — «зайдёшь?» — и прихожу в маленькую квартиру с окнами на уровне голов пешеходов, на шумную улицу. Здесь всё такое мягкое, без острых углов. Фотографии танцующих людей, балерины. На одном фото хозяину квартиры протягивает цветы женщина с угловатым лицом. «Да, это она… в Москве», — подтверждает Оскар.
Возраст в его анкете, когда он написал мне, был скорректирован на пятнадцать лет, и это единственный случай, когда я кому-то простил подобный обман, — мелкое враньё обычно не получается прогнать из памяти. Дело в том, что ему действительно не дашь больше двадцати пяти. Видимо, профессия, балет. Медленная майя молчаливых дней по одну сторону — и Майя Михайловна по другую. Хотя… морщинки в уголках глаз; хотя глубокий и отстранённый взгляд.
Вроде бы прекрасная форма, прекрасное тело и красивое лицо. Что-то странное бросается в глаза, лишь если Оскару нужно передвинуть столик или совершить хоть какое-то небольшое физическое усилие. Его движения какие-то механические, как будто вызывающие боль. Но это ещё можно списать на осанку, походку, нервы — на что угодно… И только когда он разденется, на спине и ногах станут видны широкие операционные шрамы. И тогда станет понятно, почему он назначает встречи только у себя дома с мягкой мебелью без острых углов.
Я почти ничего не знаю об этом несчастном случае… кроме того, что это произошло на сцене, и два года после этого Оскар был прикован к инвалидной коляске. Он очень много занимался и совершил невозможное. И продолжает заниматься каждый день: гимнастика, процедуры, массаж, снова гимнастика. Только никто не должен знать, как больно ему бывает.
Но, конечно, Оскар никакой не супермен и не титан духа: «Всю ночь просмотрел вручение „Грэмми“, сходил на спорт и проспал остаток дня… Как тебе, кстати, эта майка?» Мы курим что-нибудь крепкое и быстро освобождаемся от одежды. В этом есть что-то запретное: в сексе он раскрепощается и наконец ведет себя естественно. Как человек с переломанной спиной. У Оскара больше никогда не будет эрекции. Но если его долго, очень долго ебать, смотреть в глаза и шептать самое грязное: как бессовестно он перед тобой лежит, раздвинув ноги; как легко проникают в него пальцы, хуй; если царапать его шею и грудь, щипать соски — он начнёт выгибаться, закатывать глаза, хрипеть, и из маленького, сморщенного члена выступит пара мутных капель. В этот момент возбуждение такое острое… Прекратить двигаться, снять резинку, встать в полный рост и кончить ему на руки или живот… В последний раз незадолго до оргазма я видел, как его пупок стал светиться. Он разгорался и выбрасывал небольшой огненный язычок, который лизал меня, перебирался к моим бедрам, гладил болезненно поджатые яйца.
После секса мы почти не разговариваем. Мы и вообще не очень много разговариваем. Такой у нас полуденный отдых. Я выпиваю стакан воды или сока перед тем, как уйти. Но чувствую себя при этом как-то иначе. Наполненным чем-то новым и особенным. Чем-то, возможно, поделившимся или что-то отдавшим… Кто с кем играл или играет? Не знаю. Не оба ли мы — сломанные игрушки? Мы потеряли своих владельцев, в пустой детской комнате нам остаётся играть только друг с другом или с самими собой. Куклы и люди, взрослые и оставшиеся детьми.
Меня просят рассказать о Великой Битве Варениками — а не получается. Наверное, так обстоит с самыми дорогими воспоминаниями. Есть событийная канва, а остальная часть айсберга — невидимая и невербализуемая; даже не эмоции, а какие-то холод или теплота, в зависимости от человека.
Хорошо помню командировку в штабном вагоне — по кузбасской ветке ЗСЖД — со всеми остановками и рейдами, информацию для прессы, высоко-высокопоставленных попутчиков. Когда все дела были сданы, я не стал оставаться на грандиозные пьянство & блядство с железнодорожными генералами, а перепрыгнул на кемеровский поезд — благо тогда на руках был открытый билет по всей Западно-Сибирской — и поздно вечером вышел на Новосибирске-Главном.