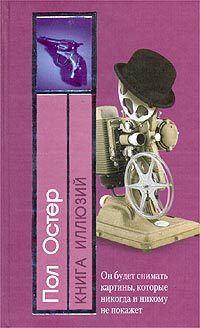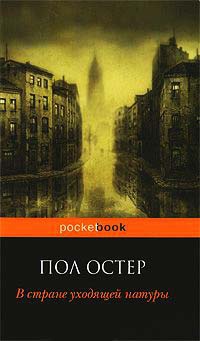Книга Левиафан - Пол Остер
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Это была, прямо скажем, странная пара С какой стороны ни посмотреть, Бен и Фанни казались антиподами. Он — длинноногий, длиннорукий, костлявый, угловатый; она — маленькая, фигуристая. У него лицо краснощекое, зимой от ветра, летом от солнца; у нее гладкая кожа оливкового оттенка. Вечно в движении, он занимал собой все пространство, а выражение его лица постоянно менялось; она же, уравновешенная, неспешная, передвигалась с грацией кошки. Я находил ее не столь красивой, сколь экзотичной… нет, это слово не передает того, что я пытаюсь выразить. «Способность завораживать» — так, пожалуй, будет точнее. Она была самодостаточна, и поэтому, даже когда она просто молча сидела, на нее хотелось смотреть и смотреть. Она не балагурила, как Бен, не отличалась быстрой реакцией, не болтала без умолку, — но, сравнивая их, я нахожу, что она умнее, аналитичнее, что она яснее формулировала свои мысли. Бен, человек интуитивный, обладал интеллектом отважным, но не гибким, готовым к риску, к прыжку в неизвестность, к невероятным умозаключениям. Фанни, напротив, мыслила вдумчиво и бесстрастно, обладала большим терпением и была не склонна к безосновательным замечаниям и поспешным выводам. Он — хохмач, она — ученый; он — открытая рана, она — сфинкс; он — из простых, она — аристократка. Это был брак между кенгуру и пантерой. Фанни, безукоризненно одетая, стильная женщина, и рядом с ней мальчишка-переросток, на полторы головы выше, в вытертых джинсах и серой фуфайке с капюшоном. Ходячий нонсенс. Те, кто впервые видел их вместе, считали, что это два человека, случайно оказавшиеся рядом.
Но это было поверхностное впечатление. Увалень Сакс отлично понимал Фанни, и не только ее, а вообще женщин, в компании которых оказывался, и всякий раз я поражался, как все они невольно к нему тянулись. Может, в этом сыграло свою роль то, что он вырос в окружении трех сестер; возможно, эта близость оставила в его детской душе какие-то оккультные знания женского сердца, к коему другие мужчины всю жизнь пытаются подобрать ключи. Фанни знавала тяжелые минуты, и с ней, надо думать, не всегда было легко. С виду абсолютно невозмутимая, она нередко вся кипела внутри, и я не раз наблюдал, как она вдруг делается мрачной и меланхоличной, пораженная какой-то непонятной тоской, и на глаза наворачиваются слезы. В такие мгновения Сакс брал ее под свое крыло, проявляя трогательную нежность и бережность, и она, мне кажется, привыкла полагаться на него, зная, что он ее поймет, как никто другой. Чаще всего его участливость проявлялась неявно, в недоступной для окружающих форме. Например, когда я первый раз пришел к ним в дом и мы сели за стол, разговор зашел о детях — заводить ли их вообще, и если да, то когда, как с их появлением меняется жизнь и все такое прочее. Помнится, я был целиком «за». Сакс, напротив, произнес целый монолог, почему не надо иметь детей. Его аргументы были достаточно традиционными (мы живем в ужасном мире, планета перенаселена, со свободой можно будет распрощаться), но он излагал их с такой страстью и убеждением, что казалось, говорил не только от своего имени, но и от имени Фанни, которая тоже категорически против. Все обстояло иначе, однако это выяснилось гораздо позже. Оба очень хотели детей, но Фанни никак не могла забеременеть. Они советовались с врачами, перепробовали все мыслимые средства — ничего не помогало. За два дня до памятного ужина им был объявлен окончательный приговор, который стал для Фанни страшным ударом. Потом она мне признается: это ее крест на всю оставшуюся жизнь. В тот вечер, чтобы избавить ее от необходимости высказываться по данному вопросу, Сакс плел всякую чушь, разводил турусы на колесах, лишь бы замести следы. Тогда казалось, он обращается ко мне, но, разумеется, его речь относилась к Фанни. Он как бы говорил ей: «Оттого что ты не родишь мне ребенка, я не буду меньше любить тебя».
Бена я видел чаще, чем Фанни, но мало-помалу у нас с ней завязалась своя дружба. В каком-то смысле это было неизбежно, если иметь в виду мою давнюю влюбленность, а с другой стороны, она была серьезным препятствием, и прошло несколько месяцев, прежде чем я научился спокойно, без смущения встречать ее взгляд. Когда-то Фанни была моей грезой, желанным и недоступным призраком, и вдруг она материализовалась в новой роли, женщина из плоти и крови, жена моего друга… Сознаюсь, я был выбит из колеи. При нашей первой встрече я говорил какие-то глупости, и это лишь усугубило мое чувство вины и добавило растерянности. Однажды я ей признался, что не запомнил ни одной лекции, так как все это время поедал ее глазами.
— Согласись, практика важнее теории, — объяснял я. — Зачем слушать рассуждения об эстетике, когда перед тобой сама красота?
Вообще-то я таким образом пытался загладить свою вину за прошлое поведение, но получилось только хуже. Подобные вещи не следует говорить ни при каких обстоятельствах, тем более в легкомысленном тоне. Нельзя так грузить человека, из этого ничего хорошего не получится. От моей грубоватой прямоты Фанни стало не по себе.
— Да, я помню эти лекции… — Она выдавила из себя улыбку. — Тоска зеленая.
— Мужики — что с нас взять! — Я уже не мог остановиться. — Особенно в двадцать лет. Зуд в одном месте и всякая гадость на уме.
— Просто гормоны.
— Ну да. Хотя не все можно списать на гормоны.
— У тебя всегда было такое лицо… — Она перевела разговор в более спокойное русло. — Как будто ты на что-то решился. То ли изменить мир, то ли покончить с собой.
— Пока я не совершил ни того ни другого. Надо так понимать, что я отказался от своих честолюбивых амбиций.
— Может, оно и к лучшему. Жизнь слишком интересна, чтобы жить прошлым.
Так, в завуалированной форме, Фанни помогла мне слезть с крючка — и заодно послала предупреждающий сигнал: веди себя хорошо, если не хочешь, чтобы я тебе припомнила старые грешки. Неприятно чувствовать себя подсудимым, но ее опасения были небезосновательны, и я не виню ее за то, что она держала со мной дистанцию. Со временем, когда мы лучше узнали друг друга, ощущение неловкости исчезло. Выяснилось, что мы родились в один день, и это совпадение, хотя к астрологии мы оба были равнодушны, скрепило нашу дружбу. Фанни была на год старше меня, и при случае я обращался к ней с комической почтительностью, это стало таким отработанным номером, который неизменно вызывал у нее смех. Если учесть, что она была не из смешливых, я мог записать это себе в актив. Фанни просвещала меня в области ранней американской живописи: Райдер, Чёрч, Блейклок, Коул — до нее я почти ничего не знал об этих художниках. После защиты диссертации осенью семьдесят пятого (ее монография об Альберте Пинкхеме Райдере фактически открыла это имя для широкой публики) она стала помощником куратора по американскому искусству в Бруклинском музее и продолжает там работать по сей день. В настоящий момент (11 июля) она путешествует по Европе и вернется в Америку не раньше Дня труда. Я бы мог с ней связаться и рассказать о Бене, но не вижу в этом большого смысла. Ну чем она может помочь? Если до ее возвращения агенты ФБР не докопаются до истины, будет лучше, если она останется в неведении. Сначала я подумал: сообщить ей о случившемся — мой долг. Но по зрелом размышлении решил не отравлять ей отдых. Она и без того хлебнула, да и не телефонный это разговор. Вот вернется, сядем лицом к лицу, и поведаю ей все, что знаю.