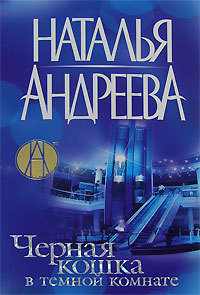Книга Мертвецы живут в раю - Жан-Клод Иззо
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Я выслушал дрогиста.
— Слишком много арабской дряни. Вот в чем проблема.
— Они живут здесь. Не вы их сюда привезли. И не я. Они живут здесь и мы должны жить с ними.
— А что, вы за них?
— С этим ничего не поделаешь, Варунян. Они — арабы, вы — армянин.
— И горжусь этим. Вы что-то имеете против армян?
— Ничего. Против арабов тоже.
— Ну да. И к чему это приводит? Центр стал похож на Алжир или Оран. Вы туда заходите? Я захожу. Так вот теперь там от них не продохнешь. (Я дал ему выговориться.) Раньше, если ты толкал магребинца, он извинялся. Теперь он тебе говорит: «Ты мог бы извиниться!». Наглецы, вот они кто! Считают, что они у себя дома, черт возьми!
Мне больше не хотелось его выслушивать, ни даже спорить с ним. Это вызывало у меня отвращение. И всегда так было. Слушать его означало словно читать «Меридиональ». Каждый день эта ежедневная газета крайне правых изливала ненависть. Она заходила так далеко, что писала: «Однажды придется использовать республиканские отряды безопасности, жандармерию, полицейских собак, чтобы уничтожить арабские кварталы в Марселе…». Все это взорвется, если мы ничего не будем делать. Это точно. Но у меня не было решения. Ни у кого его не было. Надо было ждать. Не смиряться. Ставить на будущее. Верить, что Марсель выживет в этом горниле человеческих рас. Возродится. Марсель и не такое видывал.
Я развел враждующие стороны, наложив на них штрафы за нарушение порядка в общественных местах, которые предварил небольшой моральной нотацией. Варунян ушел первый.
— Полицейским, вроде вас, мы устроим праздничек, — сказал он, открывая дверь. — Скоро. Когда придем к власти.
— До свидания, господин Варунян, — надменно ответила Лейла.
Он сразил ее взглядом. Я не был в этом уверен, но мне показалось, что я слышал, как он пробормотал сквозь зубы «сволочь». Я улыбнулся Лейле. Через несколько дней она позвонила мне в комиссариат полиции, чтобы поблагодарить меня и пригласить к ним в воскресенье на чай. Я принял приглашение, Мулуд мне нравился.
Теперь Дрисс был учеником в гараже на улице Роже Саленгро. Кадер работал в Париже у дяди, который держал бакалейную лавку на улице Шаронь. Лейла училась в университете Экс-ан-Прованса. В этот год она кончала магистратуру по современной литературе. Мулуд снова был счастлив. Его дети были пристроены. Он ими гордился, особенно дочерью. Я его понимал. Лейла была умная, чувствовала себя уверенно и была красива. «Вылитая мать», — уверил меня Мулуд и показал мне фотографию Фатимы: Фатима и он в старом порту. Их первый день вместе после долгой разлуки. Он отправился туда встретить Фатиму, чтобы отвезти ее в рай.
Дверь открыл Мулуд. Глаза у него были красные.
— Она пропала. Лейла пропала.
Мулуд приготовил чай. Уже три дня он не имел от Лейлы известий. Это было не в ее привычке, я это знал. Лейла проявляла уважение к отцу. Ему не нравилось, что она носит джинсы, курит, пьет аперитивы. Он упрекал ее за это. Они спорили по этому поводу, ругались, но Мулуд никогда не навязывал ей своих мыслей. Лейле он доверял. Именно поэтому он разрешил ей поселиться в общежитии университетского городка в Эксе. Жить самостоятельно. Она звонила раз в два дня и приезжала домой на воскресенье. Часто Лейла оставалась ночевать. Дрисс отдавал ей диван в гостиной, а сам спал с отцом.
Молчание Лейлы вызывало беспокойство еще и потому, что она даже не позвонила, чтобы сообщить, сдала ли она экзамен.
— Может быть, она провалилась и ей стыдно… Она сидит у себя в уголке и плачет. Она боится приехать домой.
— Может быть.
— Ты должен поехать к ней, месье Монтале. Сказать ей, что это неважно.
Мулуд сам не верил ни единому слову из того, что говорил. Я тоже. Если она провалила бы свой экзамен, то да, расплакалась бы. Но из-за этого сидеть безвылазно в своей комнате, нет, я не мог в это поверить. И потом я был уверен, что она защитила свою работу на тему «Поэзия и долг самобытности». Две недели назад я ее прочел и нашел, что это замечательная работа. Но жюри был не я, а Лейла была арабка.
Она вдохновилась ливанским писателем Салахом Стетие и разбивала некоторые его тезисы. Она наводила мосты между Востоком и Западом поверх Средиземного моря. И она понимала, что в сказках «Тысячи и одной ночи» в поступках Синдбада-морехода проглядывают те или иные из эпизодов «Одиссеи» и находчивость, которую признают за Улиссом и его лукавой мудростью.
Больше всего мне нравился ее главный вывод. Для Лейлы, дочери Востока, французский язык становился тем местом, куда переселенцы привозили с собой свои родины и где могли, наконец, поставить свои чемоданы. Язык Рембо, Валери, Шара[8]сможет скреститься с другими языками, утверждала она. Мечта второго поколения арабов. В Марселе этот процесс уже породил какой-то диковинный французский язык, смесь провансальского, итальянского, испанского, арабского с примесью арго и налетом «верлана»[9]. Но мальчишки и девчонки прекрасно понимали друг друга, изъясняясь на нем. На улице. В школе и дома — это было совсем другое дело.
В первый раз, когда я зашел за ней на факультет, я обнаружил на стенах расистские надписи. Оскорбительные и непристойные. Я задержался перед самой короткой: «Арабов, черных — вон!». Для меня фашистским факультетом был факультет юридический. В пятистах метрах отсюда. Человеческая подлость проникла и в современную литературу! Кто-то приписал для тех, до кого еще не дошло: «Евреев тоже!».
— Эти граффити, наверное, не стимулируют работу, — сказал я ей.
— Я не обращаю на них внимания.
— Правильно, но они у тебя в голове. Разве нет?
Она пожала плечами, закурила «кэмел», потом взяла меня под руку, чтобы увести подальше отсюда.
— Когда-нибудь мы добьемся этого, предъявим наши права. Я голосую именно за это. И я уже не одна.
— Ваши права, да, наверное. Но они не изменят твою физиономию.
Она смотрела мне прямо в лицо, улыбаясь одними губами. Ее черные глаза сверкали.
— Как бы не так! А что в ней особенного, в моей физиономии? Может быть, она тебе не нравится?
— Очень милая, — пролепетал я.
Лицо ее напоминало лицо Марии Шнейдер в фильме «Последнее танго в Париже». Такое же округлое, такие же длинные и вьющиеся волосы, только черные. Как и ее глаза, которые в упор смотрели на меня. Я покраснел.
Два этих последних года я часто встречался с Лейлой. Я больше знал о ней, чем ее отец. У нас вошло в привычку раз в неделю, в полдень, вместе обедать. Она рассказывала мне о матери, которую едва знала. Ей недоставало матери. Время ничего не сгладило. Наоборот. Каждый год тяжело переживался день рождения Дрисса. Всеми четырьмя.