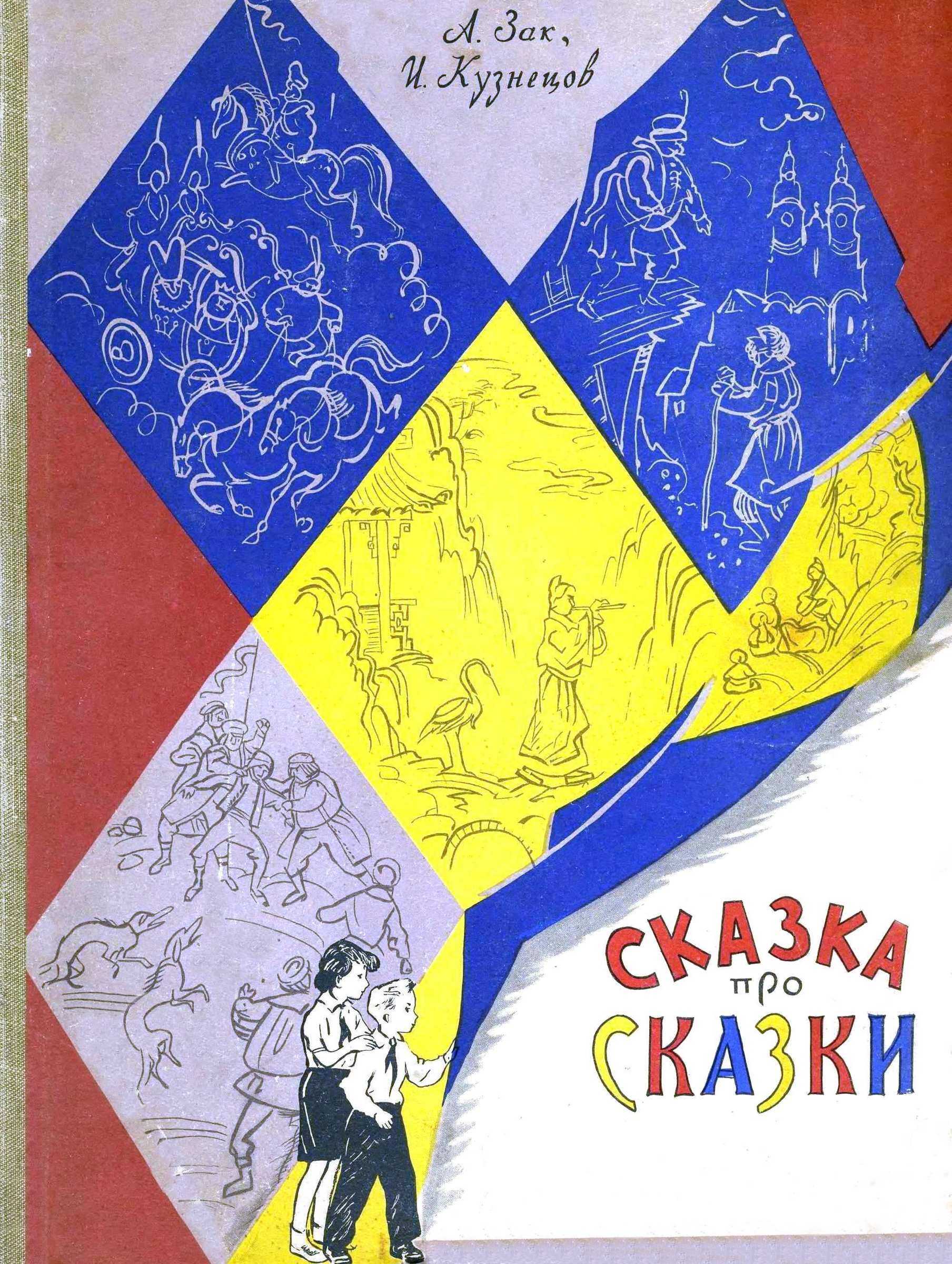Книга В путь-дорогу! Том I - Петр Дмитриевич Боборыкин
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Иногда маленькій Боря отворялъ большую дверь въ гостиную и заставалъ тамъ свою мать… Она ходила взадъ и впередъ, скрестивъ руки на груди, и не замѣчала мальчика. Боря постоитъ, бывало, нѣсколько минутъ — и тихонько выскользнетъ опять въ залу.
А по смерти матери, отецъ Бориса, въ долгіе зимніе вечера, когда оставался дома, по нѣскольку часовъ ходилъ изъ залы въ темную гостиную; случалось, что бабинька запрется съ нимъ туда; онъ выйдетъ встревоженный и уѣдетъ на цѣлый день изъ дома.
Но лучшими минутами жесткой, холодной гостиной были тѣ, когда Борисъ, взявъ сестренку свою на руки, заходилъ туда тихонько и, прислушиваясь, что дѣлается у бабиньки, въ темнотѣ садился въ уголъ дивана, и оба молчали, и обоимъ хотѣлось просидѣть тутъ всю ночь, чтобъ никто не зналъ, гдѣ они, и не хватились ихъ къ ужину…
Вотъ что было въ парадныхъ комнатахъ. Пойдемте въ жилыя.
Сперва въ диванную, гдѣ сорокъ лѣтъ живетъ бабинька. Комната выкрашена зеленой краской, съ перегородкой, обтянутой зеленымъ коленкоромъ, съ длинными красными стрѣлами.
За ней помѣщается кровать бабиньки и кіотъ.
Въ диванной стоитъ особый воздухъ: пахнетъ и травами, и уксусомъ, и пылью… Только старыя комнаты и старые люди окружены такимъ воздухомъ. Все зелено въ диванной — и занавѣски, и обойка мебели, и лицо бабиньки, особенно при свѣтѣ двухъ сальныхъ свѣчъ въ высокихъ шандалахъ, которые ставятся на круглый столъ, оклеенный посрединѣ зеленымъ же сукномъ. Здѣсь тянется все одна и та же жизнь. Бабинька встаетъ рано, одѣвается скоро и тотчасъ послѣ чаю начинаетъ двигаться, распекать, бѣгать по всѣмъ угламъ, давать приказанія, все высматривать и ко всему прислушиваться. Послѣ обѣда она немножко успокоится, ляжетъ отдохнуть. Вечеромъ, къ чаю, сядетъ на диванъ и работаетъ. Тутъ является къ ней Амалія Христофоровна и съ подобострастнѣйшей миной выслушиваетъ ея ворчанье. Машу приводятъ и сажаютъ рисовать или читать. Борисъ, когда былъ помоложе, тоже проводилъ вечера въ диванной, посматривая искоса на бабиньку. Гувернеры его сидѣли въ углу и дремали. Старуха обыкновенно чѣмъ-нибудь раздражалась, и только ея голосъ слышался въ зеленой комнатѣ. Такъ проходило время до ужина. Накрывали круглый столъ, ужинали и расходились. Бабинька отправлялась за перегородку, но не засыпала до тѣхъ поръ, пока не пріѣдетъ отецъ Бориса, когда онъ живалъ въ городѣ.
Не больше было радости въ диванной, чѣмъ въ двухъ пріемныхъ комнатахъ…
Изъ диванной дверь отворялась на темную площадку. Крутая лѣстница вела наверхъ; направо была уборная, въ которой никто не убирался, а разливали чай; прямо— большая дѣвичья. Она имѣла видъ большаго чулана, заставленнаго сундуками и лавками. Грязь, въ самыхъ разнообразныхъ проявленіяхъ, украшала это вмѣстилище обширной женской прислуги, На лавкахъ и сундукахъ сидѣли старухи и пряли; кто моложе, вязалъ и; маленькія дѣвчонки торчали на. полу, босикомъ. Жужжанье веретенъ смѣшивалось съ говоромъ и ворчаньемъ старухъ. Въ 12 часовъ ставился большой столъ, происходило хлебаніе щей и тасканъе изъ нихъ солонины. Въ сумерки многія изъ старухъ пили потихоньку чаекъ на своихъ сундукахъ, а вечеромъ начинались опять пряжа и вязанье, при свѣтѣ точно такой же монастырки, какая горѣла въ передней…
Жизни человѣческой не достало бы, чтобъ разсказать все то, что говорилось въ этой дѣвичьей. она была мѣстомъ безконечныхъ толковъ и никогда неумиравшей вражды между владѣтельницами разиородныхъ сундуковъ, на которыхъ выпрялась въ сорокъ лѣтъ не одна сотня пудовъ пряжи.
Къ дѣвичьей примыкали двѣ, такъ называемый, дѣтскія; въ нихъ жилъ отецъ Бориса до смерти дѣдушки. Эти дѣтскія стояли пустыми, но Борисъ помнилъ, что дядя его помѣщался тамъ же, когда пріѣзжалъ домой.
Комнаты верхняго этажа было двухъ родовъ: однѣ въ мезонинѣ, другія въ антресоляхъ. Крутая лѣстница вела съ темной площадки въ рядъ каморокъ, гдѣ жили когда-то приживалки и воспитанницы бабушки, а потомъ помѣщались гувернеры, Амалія Христофоровна и тѣ изъ старухъ, которымъ не достало мѣста въ дѣвичьей.
Всего замѣчательнѣе была одна изъ этихъ каморокъ; изъ нея ходили въ чуланъ, черезъ узкій, совсѣмъ темный корридорчикъ, имѣющий видъ стойла. Каморка раздѣлялась на двѣ половины: одна, съ окномъ, представляла салонъ; другая, въ видѣ темной кануры, служила спальней и полна была такой грязи, которую не опишешь никакимъ перомъ. Въ этомъ помѣщеніи жила до самой смерти старая дѣвица Степанида Ѳедоровна. О ней Борисъ вспоминалъ каждый разъ съ любовью, какъ проходилъ мимо бывшей ея каморки.
Степанида Ѳедоровна была любимая фрейлина прабабушки. Та отпустила ее на волю: съ тѣхъ поръ Степанида Ѳедоровна жила на особомъ положеніи, занимала свою каморку и цѣлые дни читала. Страсть къ чтенію не давала ей ни минуты покоя. Она каждый вечеръ пробиралась внизъ и выпрашивала у камердинера барскихъ газетъ; а если этакимъ путемъ не удавалось добыть ихъ, она похищала, что можно. Не было въ домѣ ни одной русской книги, которая не побывала бы въ рукахъ Степаниды Ѳедоровны. Освѣщенія ей не полагалось, и она по всему дому собирала сальные огарки и наполняла или чайникъ съ отбитымъ горлышкомъ, онъ служилъ ей лампой. Собираніе кофейной гущи и табачныхъ окурковъ входило также въ ея спеціальность. Гущу она подваривала и пила, окурками набивала маленькую трубочку и курила.
Борисъ, мальчикомъ, часто забѣгалъ къ ней въ каморку, толковалъ съ ней объ Иванѣ Грозномъ и Наполеонѣ, просилъ иногда потихоньку затянуться, и Степанида Ѳедоровна никогда ему не отказывала, угощала даже медкомъ, который доставала изъ грязнѣйшаго шкапика. И много книжекъ перечиталъ онъ, подстрекаемый разсказами Степаниды Ѳедоровны. Вся ея личность составляла что-то отдѣльное отъ общаго строя жизни дикаго дома. До нея ничто не касалось, кромѣ газетъ, книгъ, календарей, вытверженныхъ ею наизусть, кофейной гущи и окурковъ Жукова. И съ ея смертью, каморка стала обитаема однѣми мышами.
А выше антресолей, въ мезонинѣ, въ тѣхъ комнатахъ, гдѣ мы уже были, протекло много тихой страдальческой жизни; тамъ умерла мать Бориса, тамъ же протянулось его дѣтство. Комнатки были уютнѣе и свѣтлѣе другихъ; въ нихъ было больше задушевныхъ, хоть и тяжелыхъ образовъ.
Бильярдная и спальня при дѣдушкѣ носили на себѣ оттѣнокъ стариковской наивности. Спальня была тогда кабинетомъ, и дни приходили въ ней однообразнѣе, чѣмъ во всѣхъ остальныхъ комнатахъ. А со смерти дѣдушки кабинетъ сдѣлался тоскливой спальней, гдѣ въ послѣдніе годы безпрерывно раздавался кашель больнаго Телепнева.
Только одна музыкантская за хорами не грустила и сохраняла свой первобытный юморъ, вмѣстѣ съ запахомъ, неистребимымъ вѣками. Тамъ покоились груды рукописныхъ нотъ, старыя валторны и огромный трехструнный контрбасъ съ львиной головой. Стѣны музыкантской разсказали-бы не одинъ комическій эпизодъ изъ