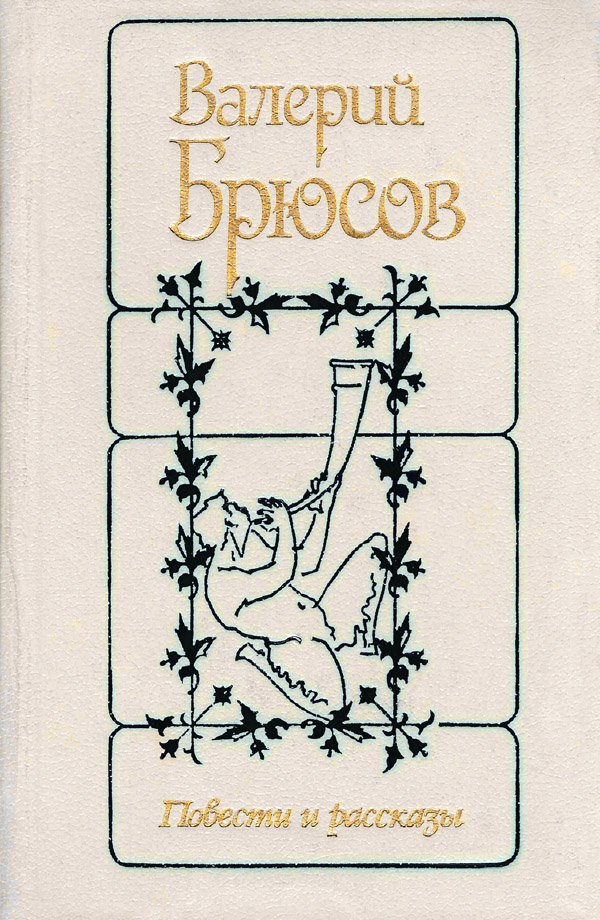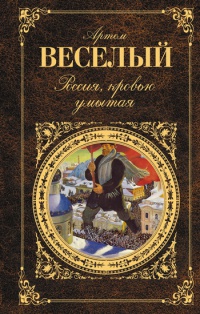Книга На повороте. Рассказы и очерки из советской жизни - Борис Федорович Соколов
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
———
«Пойман. Ведут» Кончено. Женщина плачет.
Плачет молча и тихо... Счастью конец.
———
«Умер. Убит.»
Крестьяне толпою окружают вернувшихся красных. Расспрашивают. Куда пуля попала. Да как тело нагнали. Бабы охают, ахают.
«Ишь бедненький умер.» А старая баба, ветхая, в землю растущая, грозит кулаком в сторону красных: «Ишь нехристы.»
———
Тело втащили. Мокрое, розовато желтеющее от крови, из раны сочившейся. Глаза убитого полузакрыты. И шрам на лице, недавно живой, темно красневший, стал бледным и синим.
Тело внесли и бросили грубо к ногам плачущей женщины, любимой убитого. И забывшись от горя, она его теребила, звала, грела руки — целовала лицо. Тщетно стараясь в тело умершего влить жизни волну.
———
Солнце уставшее, сонное — готово уснуть. Уходя — золотит пароход своими лучами. Чайки, забыв о стрельбе, о шуме недавнем, досадном, снова кольцом изменчивым, серо белеющим, маячат над флагом.
Белокурая девочка — смеется, довольная. Тянет ручку к отцу и хочет играть с его бородой, золотистой от солнца и красной от крови...
НОЧЬЮ
Из-за острова на стрежень,
На простор речной волны,
Выплывают расписные
Острогрудые челны.
———
Слова родной песни. Волжской. Столь обычной и частой в прежние годы. Столь редкой — в теперешние дни.
Слова — отчетливо понятные всем волжанам.
———
А на первом Стенька Разин,
Обнявшись — сидит с княжной...
———
Слушая Волжскую песнь — мечтаешь... и в мечтах хочешь простора. Речного. Водного. Ищешь леса, густого, дикого. Стремишься к степи, бесконечной, свободной. Мечты о свободе, мечты давнишние, русские.
———
Волга дремала. Тихая. Голубая от лунного света. Против Вольской Горы, по середине реки, черным пятном, редким и ясным, барка выделялась, и тенью неясною ее края мешали лунным лучам, их нелепой игре с речными волнами...
Привольными... Суетливо-мелкими.
———
Волга, Волга, мать родная.
Волга, матушка моя.
И до берега песня доносится глухо и смутно. Чем то далеким, нездешним кажется пение людям берега. Ибо чуются в нем вместо слов — слитые звуки. Вместо счастья и воли — тоска и тюрьма.
———
На палубе барки, большой, железом обитой, тихо и пусто. Только два часовых маячат взад и вперед. От борта до борта. Молча. Тоскливо.
———
Внизу в трюме — много людей. Спят. Полулежат. Пьют. Говорят громко и в раз; по одежде, по виду — крестьяне. В зипунах и в лаптях. Бородатые. Безбородые.
„Эх, ты Филька!“
...........“
Неистово размахивая руками, подпрыгивая и наклоняясь всем телом, управляет хором высокий крестьянин.Он в солдатской форме, молодой, веселый.
„Стой, братцы. Неладно песня идет. Больно грустно тянете.
Плясовую ребята. Посторонись, братцы.“
Расчищено место вокруг жаровни. Убрали зипуны и котомки. И поплясать русскую. Пристукивая, гикая, носились взад и вперед плясуны. И отблеск раскаленных углей чертил на грузных спинах их причудливые фигуры... куда-то несущиеся. Чего-то ищущие. В безумной пляске.
В углу, окруженный крестьянами сидит старик. Седой. Бедно одетый. Босой. И голосом монотонным, слегка нараспев, говорит о делах деревенских.
„И стала меня, братики родимые, ось ту пору тоска заедать. Ночь и день, точно неприкаянный брожу по своей келье, взад и вперед, и так тяжело душе моей, просто ужасти. И не мог я в те поры ни Богу молиться, ни работать; только и знаю,что на небо смотрю да тоскую. Итак я, братики, от этой тоски моей, разнемогся, что и есть и пить перестал. Совсем стал не свой. И взмолился я Господу Богу. Почто меня раба своего вверг в горесть безысходную! Смилостивился он мольбам раба своего и прислал ко мне святого Кирилла угодника. В лютую ночь, дождливую и грозную пришел он ко мне, и тоска моя, братики, как от солнца весеннего — лед, разошлась, растаяла. Распростерся я ниц перед угодником. И заплакал слезами воскресшего. А он, братики мои родимые, родненькие, голосом этаким слабым и грустным мне и сказал:
„Братец Степан, сосуд ты чистый еси перед Господом Нашим, ибо блюдешь ты любовь Господню в сердце своем. Уготовано тебе мною, посланником Божьим, страданьям людским помогать во имя Господне. Надлежит тебе деяния дьявольские, бесовские насаждения именем Господним разрушить. Ибо люди, силою неясной опутанные, задумали дело губительное, смерти подобное, меня, слугу Божьяго — во прахе моем оскорбить.“
Сказал и ушел, и я, братики, впервые с сердцем утихшим уснул, как дитя малое.
Наутро пошел я в путь дороженьку. Шел быстрее и легче парня любого, словно Господь Бог снял с меня тяжесть лет моих, стариковских, словно влил он в тело мое — силу чудесную.
На пятые сутки пришел я, братики родные, в скит Кирилла, угодника Божьяго. Где мощи его, человека Божьяго, покоются. Вижу в городе кругом толпа, все мужики да бабы. Мужики неспокойные. И бабы голосят, ревут. Что, братцы, случилось, спрашиваю. Да не видишь разве, дедушка, что красные святого Кирилла мощи тревожить хотят. Как сказал он эвто, так стал я сам не свой. Стал голосить, криком громким кричать, призывая православных защищать против дьявола угодников Божьих. Ну, известно, народ всколыхнулся. В христианской душе мои вопли подняли бурю. Мужики, и больше всего бабы меня окружили, подняли, понесли прямо к мощам. Вижу там копошатся поганые черви. Июдино семя. Доску снимают, лик Кирилла надругательски рвут. Потерял я тут, братцы мои, память мою и не помню, что было. Потом очнулся, лежу в темном сарае. Рядом со мною пять-шесть мужиков. Силы моей как не бывало. Хуже дитятки малого. Ни встать, ни пойти и все хочется плакать, словно баба какая.
Ну а опосля вогнали нас в Вольск. Так-то, братики, родненькие...“
В другом углу трюма — горячий спор.
„Нет, ты мне докажи, что по хорошему, по Божьему, нельзя жить,“ горячится мужик, с бабьим лицом, безбородый.
„Нет, ты докажи, по какой этакой причине, люди подобно зверям, дерутся промеж себя. Ну, есть к примеру какая к тому потребность, чтобы на Руси брат на брата пошел. Большевики идут на мужиков, мужики на рабочих, а почто — неведомо никому. Все люди одной матери. Россеи матушки. И оно, коли рассудить, так все люди могут жить на белом светушке, не мешая друг дружке.“
„Ан не прав ты, паря, отвечает ему чей то голос грудной и могучий, — потому,что больно молодо дерево, оттово и речи непутевые. Рассуди сам. Большевики зачем прижимают мужиков? Потому что им