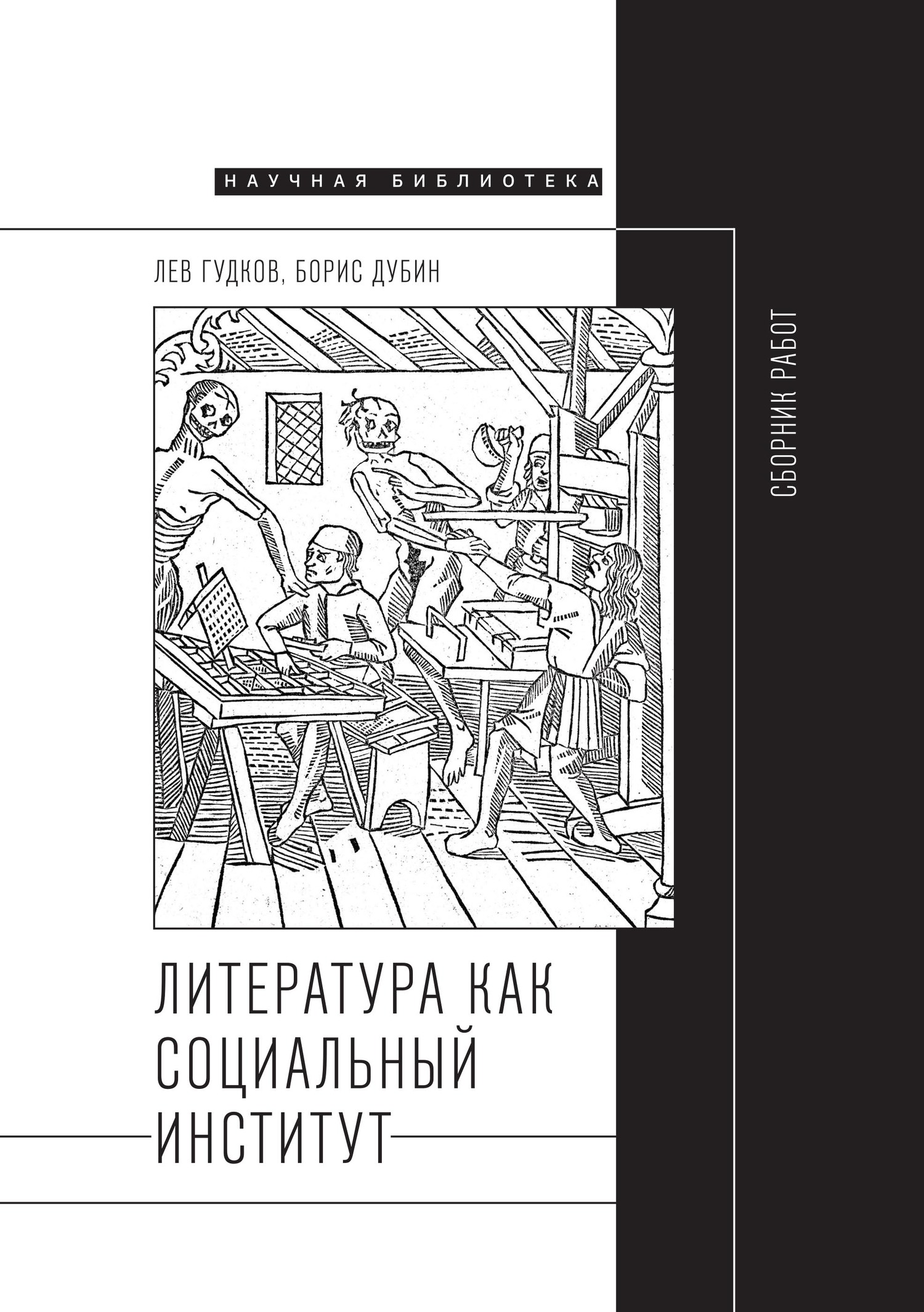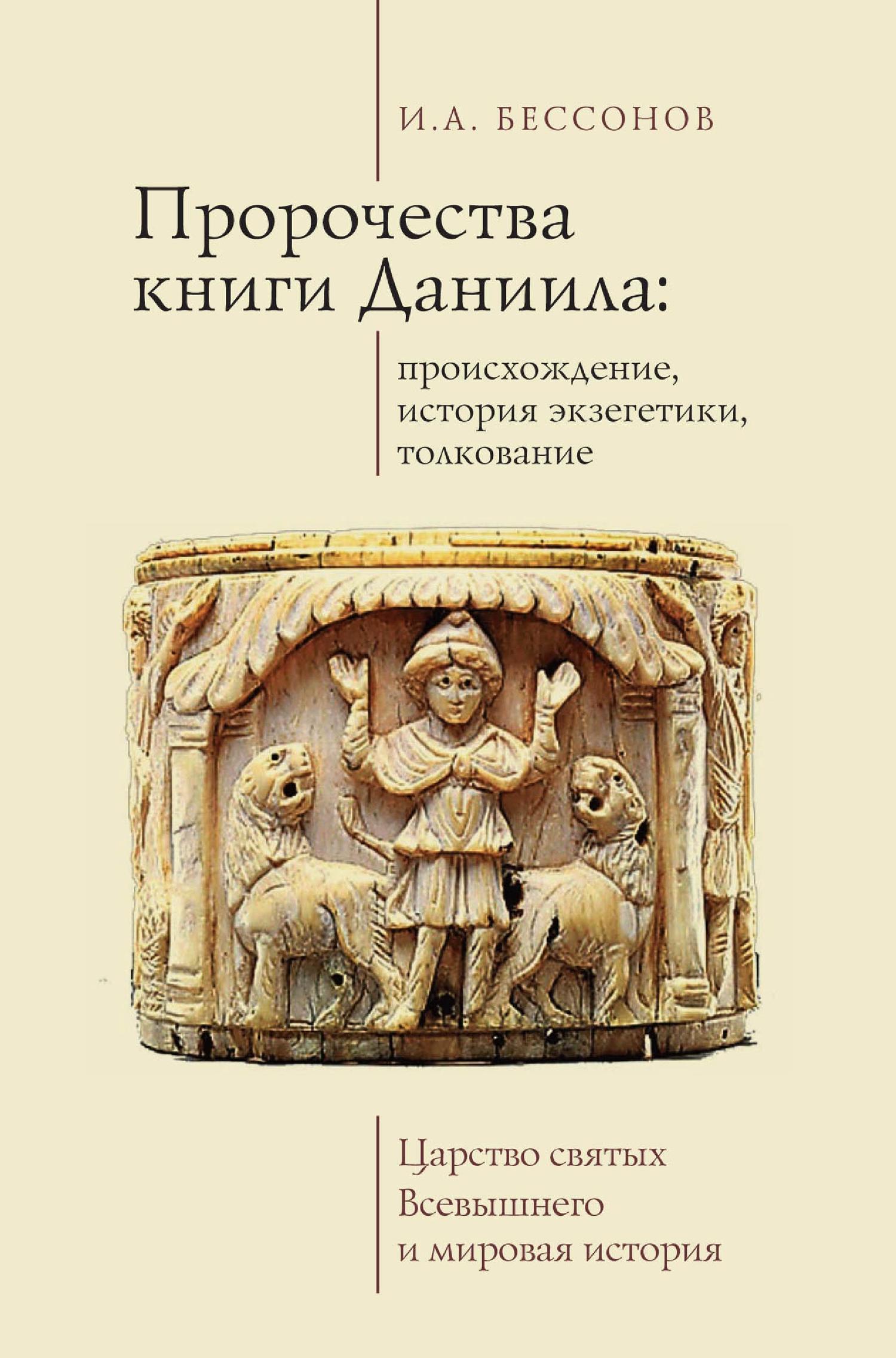Книга «Гроза» Джорджоне и ее толкование. Художник, заказчики, сюжет - Сальваторе Сеттис
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Чем может быть критика, если не искусством наслаждения искусством? И в чем может состоять задача критика, если не в том, чтобы понимать и глубоко чувствовать прекрасное произведение, чтобы воссоздавать затем свое понимание и перерабатывать свое потрясение всеми способами, доступными письменному слову? CRITICA ARTIFEX ADDITUS ARTIFICI[86].
Так, «вопреки всем архивным, историческим, агиографическим, иконографическим изысканиям», значение имеет лишь встреча критика-поэта с художником прошлого. Например, самого д’Аннунцио «сама природа ведет за собой в поиске истинного значения символа Джорджоне» в «Грозе», потому что, еще до того, как увидеть картину, он наслаждался красотами, очарованием и красками Венеции, и в его душе рождается собственное видение, возникающее внезапно, словно его озаряет вспышка внутренней молнии:
В этом поразительном сиянии нам предстает одновременное видение обнаженной Женщины и обнаженного младенца, матери и ее единственного ребенка: то же видение сияет и в «Грозе»… На самом деле, на этой старинной картине женщина и мальчик имеют очевидный характер фантастического видения, одной их тех глубоких галлюцинаций, что принимают образ реальности. Мужчина слева, изображенный отдельно от группы, в своем одиночестве и неподвижности кажется завороженным глубоко личным зрелищем. Он один: он не видит в двух других персонажах живых и близких созданий, он не обращает к ним ни одного жеста, поскольку знает, что они неосязаемы, поскольку знает, что он один. В пустынных краях, где бушует гроза, он неподвижен, хотя его желание возносится на головокружительную высоту, взрываясь молнией меж облаков.
Но столь похожего на самого д’Аннунцио Джорджоне, который в своей живописи создает «образ мужской силы, господствующей страсти, сладострастной и пылающей грусти… изобилие мужской энергии, плодотворного семени», придумал не д’Аннунцио. Его статья 1895 года была написана как комментарий к книге, опубликованной годом раньше Анджело Конти, художественным критиком и идейным последователем Imaginifico, ставшим прообразом другого персонажа романа «Огонь» – Даниэле Глауро[87]. Джорджоне (именем которого названа книга) служит Конти предлогом для гораздо более масштабного крестового похода во имя «художественной» критики, то есть критики впечатлений и чувств, противостоящей убогости любого точного исторического исследования. Как следствие, «высшая человеческая загадка, имя которой Джорджоне» – идеальный сюжет для Конти: его непроницаемая непонятность – это «настоящая удача», потому что она не позволяет «карликам эрудированной литературы устроить свою привычную непристойную свистопляску» вокруг его творчества.
Однако и Конти принимает вызов таинственной «Грозы» и прочитывает ее как идеализированное воспевание рождения ребенка, где молния, вспыхивающая над человеческой семейной безмятежностью, может намекать на драму отцовства: вместе с жизнью мужчина оставляет ребенку «ужасное наследство страдания» (p. 54 и далее). Эта вечная тема превращает Джорджоне в предшественника Гёте: «три человеческие фигуры, которые в последующие века получат в его поэме имена Фауста, Елены и Эвфориона»[88].
Именно так Джорджоне, осмысляемый в духе Гёте и, любопытным образом, «отчасти Вагнера»[89], со страниц Конти переходит на страницы д’Аннунцио. Однако это не единственное превращение, которое художник из Кастельфранко вынужден был претерпеть по прихоти своих критиков. Археолог и историк искусства Йозеф Стшиговский, известный прежде всего дилеммой, поставленной в его главном труде «Восток или Рим» об истоках раннехристианского и средневекового искусства[90], обращается с «Грозой» еще более «бессовестным» образом. В своих последних трудах этот исследователь разработал теорию чистого и сильного «нордического» искусства, которое противостоит упадническому искусству Юга. Его воззрения прекрасно сочетались с культом арийской расы, проповедуемым нацистами: «Гроза» здесь используется как пример индогерманского мироощущения, поскольку Джорджоне, разумеется, представляет искусство «нордическое». Сюжет не имеет значения, главную роль играет пейзаж, столь тесно сплетенный с личным восприятием художника, что какая-либо роль заказчика исключается. Таким образом, перед нами «выразительный пейзаж», связанный с иранской традицией (!)[91]. Картина («вдохновенное» произведение Джорджоне), лишенная сюжета и заказчика, предоставлена «арийским» манипуляциям Стшиговского. Творчество Джорджоне рассматривается в некоем пространстве «тайны», которое как нельзя лучше подходит для сомнительных культурных операций.
Другое и гораздо более успешное толкование Джорджоне, где точкой отсчета также является «тайна», было предложено Густавом Фридрихом Хартлаубом. Уже в заглавии своей самой первой работы исследователь заявляет о «тайне Джорджоне»[92], и это было бы оправдано в качестве отсылки к трудностям с пониманием сюжета, смысл которого открывался лишь немногим, в том числе среди современников художника. Менее обоснованными предстают дальнейшие рассуждения Хартлауба, а именно: 1) переход от «таинственного» в том смысле, что его «мало кто способен понять», к «таинственному» как «рожденному внутри тайных обществ»; 2) переход от «таинственного» как «рожденного внутри тайных обществ» к «таинственному» как к «изобразителю тайн этих обществ». И вот уже «Три философа» и «Гроза» превращаются в эзотерические картины: их сюжетом являются ритуалы и тайны алхимико-астрологических обществ, участниками которых могли быть лишь посвященные. Конечно, такие общества существовали в эпоху Возрождения, хотя нам неизвестно, что в то время они породили какую-то особенную иконографию. Сам Хартлауб признает отсутствие свидетельств контактов Джорджоне с этими обществами.
Однако стремясь выстроить образ «посвященного» Джорджоне, Хартлауб вынужден лишить изображение заказчика: повторяя формулу Людвига Юсти, он заявляет о «свободе Джорджоне» при создании картин и не соглашается с интерпретацией Викхоффа (которую, однако, принимал Юсти) именно потому, что эти толкования предполагают существование заказчика. Парадоксальным образом, стараясь вычитать на полотнах Джорджоне некие тайные смыслы, понятные лишь посвященным в буквальном смысле слова, Хартлауб вынужден сначала отказать этим картинам в значении в современном понимании этого слова. В отсутствие заказчика художник остается один на один со своим вдохновением (однако сюжет не становится более понятным, чем в том случае, если бы за картиной стоял «посвященный» заказчик). «Тайна» Джорджоне, который предстает здесь адептом секты алхимиков, позволяет решить старую проблему абсолютной творческой свободы художника и неудобного и докучающего присутствия не-художника, вмешивающегося в творческий процесс: «Так, „Три философа“, возможно, представляют – как уже было показано – три уровня посвящения в герметизм; „Гроза“ показывает состояние инициируемого: его символизирует младенец в объятиях матери (которая олицетворяет школу мудрости), встречающий различные „испытания“ (молния, гроза) около Храма (разломанные колонны) под наблюдением стража (мужчина слева)».
Достаточно необычно, что в качестве подтверждения и объяснения Хартлауб приводит лишь цитаты-анахронизмы: мать как школа мудрости напоминает ему университет, называемый alma mater (но с каких пор? где? Хартлауб об этом совсем не задумывается), колонны храма приравниваются к ложе в совершенно масонском смысле (!), испытания посвящаемого – к испытаниям Тамино в «Волшебной флейте». После «отчасти вагнеровского» Джорджоне Конти появляется отчасти «моцартовский» Джорджоне. И поскольку все вокруг так таинственно, почему бы не прибегнуть и к еще более модной в то время тайне? Наука посвящения в тайные общества, «если в своих мыслях и чувствах Джорджоне исходил из нее, должна была иметь значение и в его духовной жизни, вплоть до образования „комплекса“, если использовать терминологию Фрейда»[93]. Алхимию от психоанализа отделяет один шаг.
Переход от посвящения в тайные общества к Джорджоне был слишком резким. Кроме того, гипотеза Хартлауба не имела никакого документального подтверждения. Исследователь говорит об абсолютной свободе художника, при этом Джорджоне оказывается перед сектами алхимиков и астрологов в положении, не многим отличающемся от тех отношений, которые могли бы связывать его с заказчиком. Хартлауб был не слишком убежден собственным прочтением «Грозы» и потому, как мы увидим ниже, позднее предложил две другие интерпретации: несмотря на разность, в основе этих трактовок лежит «условный» сюжет и привычные отношения, связывающие художника и заказчика.
В те же годы страстный исследователь творчества Джорджоне Арнальдо Ферригуто[94], полемизируя с Хартлаубом, выдвинул свою интерпретацию картины, в русле падуанского аристотелизма эпохи мастера из Кастельфранко. Мужчина («активный и действующий фактор») и женщина («инертный и пассивный фактор») суть два полюса человеческой семьи. Ребенок с его почти животной «бурной ненасытностью» уже, однако, способен «перейти от животной фазы к фазе мужской, он может созерцать, улыбаться, становиться