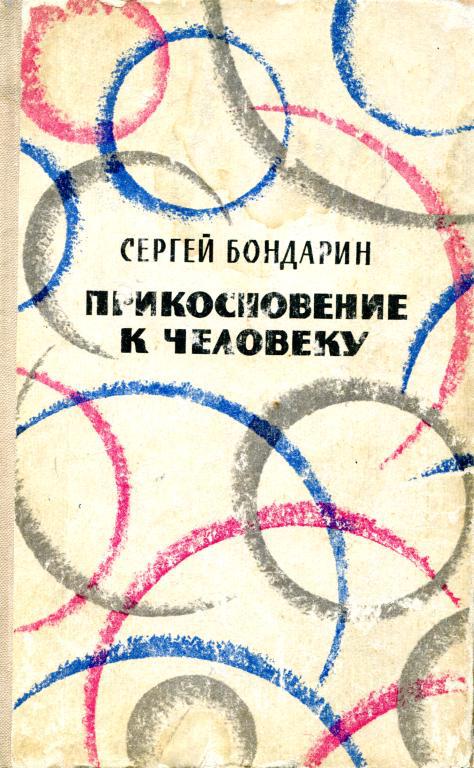Книга Уточкин - Максим Александрович Гуреев
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Простая вера в самого себя.
Вера как факт религиозного сознания.
Религиозность как способность видеть дальше вытянутой вперед руки.
Мысль о Боге Сережу, как ему казалось, не занимала.
Но она, вне всякого сомнения, в нем была.
Просто таилась до поры.
И это было вопросом времени.
Глава третья
Из состояния сна, вследствие силы удара, перешедшему совершенно нечувствительно в бесчувственное положение, естественно захотелось теперь продолжить момент перед мигом, когда я погрузился в сон рискованный.
Вот природа смерти… Увидев потолок, лампу, я понял происшедшее и по привычке принялся подсчитывать полученные повреждения…
За четырнадцать лет велосипедной карьеры на скорости 60 верст в час я падал, положим, по три раза в год на круг; падения в количестве сорока раз научили меня подводить итог им сейчас же после реализации моментов падения.
Тут-то Сережа и открыл глаза.
Над ним склонилась сестра Леля, чтобы сделать ему перевязку, а он смотрел на нее и думал, что ведь это из-за него она не смогла принять грязевую ванну от ипохондрии и бессонницы.
А еще она страдала мигренью.
Вот и сейчас, судя по синим кругам под глазами, у нее болела голова и ей было трудно наклоняться. Но она будила Сережу, чтобы сделать ему перевязку и дать лекарство, хотя ей самой требовались лекарство и уход.
И ее становилось так жалко, что мальчик пытался обнять сестру за шею, но не мог пошевелиться от боли, сковавшей все его тело.
Только и оставалось ему, что стонать в ответ.
Стонать от собственного бессилия, от понимания того, что мог быть другим — смелым, стремительным, свободным.
Это напоминало Сереже муки несвободы, когда он заикался, настойчиво пытаясь собрать из разрозненных гортанных звуков, междометий слова или даже фразы, наполненные смыслом.
Пожалуй, логоневроз и был сам по себе настоящим испытанием ущербностью, проигрышем, поражением, которое всегда было с ним.
Из статьи Сергея Уточкина «Моя исповедь»:
«Первое поражение, которое я испытал в жизни, научило меня понимать, что счастливое пользование ею зависит от владения ценностями, которые признаны теми, с кем имеешь дело, и наполняют робостью сердца и души подпавших под столкновения с собственником их.
Вот случай, иллюстрирующий мое первое и единственное банкротство.
Мне тринадцать лет. Живу на окраине города и все свободное от сидения в карцерах время деля с мальчуганами улицы… Были заведены у нас различные игры, основанные на умении, при обязательной наличности у игроков ловкости и глазомера. Переходящей разменной монетой служили картонки папиросных коробок. Особая комиссия по расценке раз навсегда установила номинальную стоимость образцов, и у меня в комнате стояло два сундука, переполненные самыми ценными экземплярами… Мой приход на места битв — это появление Вандербильда на бирже: волнение, внимательная тишина…
Мои сундуки давали мне право рискованно и бешено играть одному против всех слагавших ценности и выставлявших лучшего в данном роде игры.
Природный глазомер, разработанная техника, верность определения и изуродованные мальчуганы с опустошенными карманами плелись домой…
Но раз меж ними появился один американец, и в один прекрасный день мое появление не привело игроков в обычное волнение. На меня посмотрели, посмеиваясь, и мгновенно правда моего падения, мое молниеносное банкротство стало мне ясным как день. Играли уже на ушки, т. е. пуговицы с придавленными внутрь петлями. Я побледнел.
Напрасно предлагал я продать свои картонные деньги, настроение было насмешливое, но непоколебимое. Долгое время мои все пуговицы, пуговицы живших вокруг меня товарищей, даже учителей переходили в карманы противников, но все же энергичное трудолюбие пчелы, и — я вновь вернул себе былое влияние. Мой сундук опять стал первоисточником финансового могущества околодка. В моей комнате красовался сундук, переполненный позолоченными ушками с орлами, по таксировке дававшими при размене сотню маленьких гладких за штуку».
Поражение, из которого можно выйти победителем.
Так уже случалось и не раз, когда он падал с велосипеда, с трудом вновь садился в седло и, превозмогая боль, мчался вперед, чтобы сначала догнать, а потом и выскочить из-за спин соперников.
Корней Чуковский вспоминал: «Целыми часами просиживал я вместе с другими мальчишками под палящим солнцем верхом на высоком заборе, окружавшем тогда циклодром, чтобы в конце концов своими глазами увидеть, как Уточкин на какой-нибудь тридцатой версте вдруг пригнется к рулю и вырвется вихрем вперед, оставляя далеко позади одного за другим всех своих злополучных соперников — и Богомазова, и Шапошникова, и Луи Першерона, и Фридриха Блитца, и Захара Копейкина, — под неистовые крики толпы, которая радовалась его победе, как собственной… Я отдал Уточкину всю свою пылкую душу: не пропускал ни одного из его состязаний с румынскими, бельгийскими, итальянскими гонщиками и был беспредельно счастлив, когда однажды увидел его в гастрономическом магазине „Братьев В. И. и М. И. Сарафановых“, в котором он как обыкновеннейший смертный покупал сосиски и вино».
А ведь он и был обыкновенным смертным, поверить во что представлялось совершенным безумием, потому что достичь того, чего, например, достигал Сергей Исаевич на циклодроме, было невозможно в принципе, ведь это находилось за гранью человеческих возможностей.
Всякий раз, когда при Уточкине заходили разговоры на эту тему, ему только и оставалось, что разводить руками — просто у каждого своя грань.
Тут ведь самое главное, где ты ее для себя установишь.
И не менее важно — когда и как ты ее перейдешь.
26 июля 1913 года Сергей Исаевич Уточкин, пребывая в крайне возбужденном состоянии, вошел в подъезд Зимнего дворца в Петербурге и потребовал от швейцара немедленно доложить государю, что с ним желает говорить великий спортсмен и авиатор. Попытка остановить непрошеного визитера закончилась потасовкой, в ходе которой Уточкин кричал: «Я — гений! Государь пригласил меня! Я слышу, меня зовут!»
Все закончилось тем, что Сергей Исаевич был доставлен в Николаевскую психиатрическую больницу, что на Пряжке.
Газетное сообщение об этом печальном событии под названием «Судьба авиатора» выглядело предельно лапидарно: «27 июля утром в Петербурге распространились слухи о том, что авиатор и спортсмен С. И. Уточкин попал в городскую больницу Св. Николая на Пряжке как психически больной. Уточкина в больницу поместила полиция».
Через некоторое время с Пряжки он был переведен в больницу «Всех Скорбящих» на Петергофском шоссе.
Сочтя свое пребывание здесь незаконным заключением, Уточкин объявил голодовку.
Но его стали кормить принудительно, и он сдался.
Осенью 1913 года Сергея Исаевича выпустили, и он уехал в Одессу в надежде, что здесь, на родине, он почувствует себя лучше, успокоится и