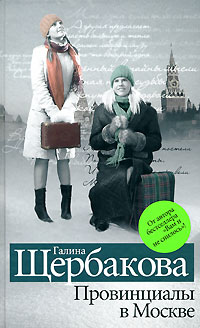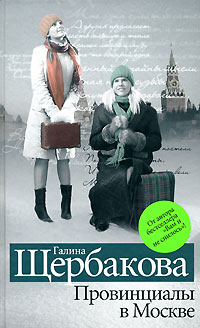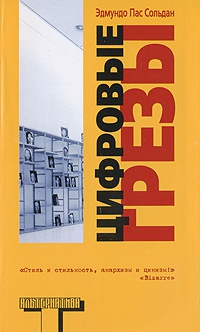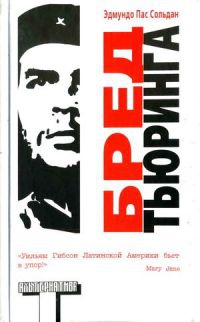Книга Чистый четверг [= Крушение; Реалисты и жлобы ] - Галина Щербакова
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Оказывается, любовь…
А ведь могла так и прожить жизнь, не ведая ее. Не первой была бы, между прочим, и не последней… «Будь она проклята! – сказала ей тетка. – Твоя любовь… Если как у тебя, то без нее лучше… Чем тебе была не жизнь? В достатке и уважении… Прямо как в анекдоте… Дерьма захотелось?»
Бэла же копила в себе новые ощущения. Как-то подруга подкинула им с Валентином на воскресенье ключи от химчистки, где была заведующей. Задрипанная такая химчистка в подвале нового дома. Подруга отключила и свет и сигнализацию. Пахло ношеным, пахло бедностью. Бэла прошлась по вешалкам. Три-четыре хорошие вещи с хорошим запахом. Остальные – почти рвань. Сроду этого не знала, а тут накатила на нее жалость. К этим убогеньким пальтишкам, поникшим платьям, затрапезным костюмам. Неизвестно, что пошла бы делать, чтоб одеть всех, как эти три-четыре.
Не призналась в этом Валентину. Он ведь не на такую «глаз положил». Слабая у него уже была. Она должна быть сильной.
И все-таки почему нет звонка?
Кравчуку принесли гранки… Художник приволок для первой обложки портрет одной птичницы – закачаешься, какая красотка. Вопросов нет, надо такую ставить.
– Ее бы крупняком, без птиц, – мечтательно сказал художник. – Жалко место переводить на пернатых, когда такая красотка.
– Только с птицами, – сказал Валентин. – И чем их больше, тем лучше. И назови «Последний день на ферме»…
– Чего? – не понял художник.
– Неужели же ты думаешь, что она после нашей обложки останется там работать? Ее замуж возьмет какой-нибудь генерал… Во всяком случае, я бы на его месте взял…
Художник, довольный, хохотнул.
– Ты бы взял, ты бы взял… Ты бы всех взял…
– Я такой, – ответил Валентин.
Если бы только кто мог видеть, как далеко он сейчас находился от слов, им произносимых.
Он думал о Николае Зинченко.
Он хотел понять, почему тот ответил ему, как учетчик тракторной бригады Заячьего хутора. Именно на этом хуторе был мысленно редактор журнала Валентин Кравчук, на родном, стоящем на отшибе хуторе. Там на него, мальчишку, тоже кричал когда-то, лет тридцать назад, Зинченко. Он уходил тогда от него и плакал, размазывая грязными руками слезы.
– И не подходи больше к машине, сучий потрох! Ноги пообломаю…
И еще он говорил какие-то слова, обидные, гадкие, и вокруг все смеялись, потому что смеяться в поле над учениками не считалось делом стыдным… На них оттачивалось слово…
Какое им дело было до того, что недалеко стояли девчонки, а среди них – Татьяна Горецкая, которую тогда, можно сказать, будто впервые увидел Валька Кравчук. И ради нее он взобрался на трактор и крутанул не туда и не так…
Как давно это было, а как сейчас… А тут еще эта фотография птичницы… И белоперая ферма… И девчонка на портрете, совсем на Татьяну не похожая, но и похожая тоже…
Черт знает что! Что случилось, кто ему скажет?
Вошел Борис Шихман. Сказал, что в приемной сидят двое. Рвутся в кабинет Валентина на том основании, что они из Заячьего хутора. Выгнать?
Это же надо! Хутор, можно сказать, наступал изнутри и снаружи сразу.
…Валентину было четыре года, когда началась война. С субботы на воскресенье отец взял его с собой рыбачить. Они встали рано, до солнца, и пошли с отцом в заветное место. Отец шел впереди, и Валентину запомнились штаны отца, широкие, серые, подвернутые до колен. За подвернутость он, маленький, держался рукой, когда они спускались к речке. От этого отцу было неудобно идти, и он даже крикнул ему: «Да не чипляй ты меня за ногу… Я ж двигаюсь…» До сих пор в ушах голос отца, а в ладонях ощущение брючной ткани. Потом, уже взрослому, почему-то понадобилось узнать, из чего были сшиты отцовские штаны. Выяснилось – диагональ. Мать – он у нее спросил – почему-то разволновалась, что он помнит эти штаны, расплакалась и сама тогда вспомнила удивительное. Будто, когда они с отцом вернулись днем и мать, крича в голос, сказала им про войну, отец вроде бы как и не понял сразу, про что речь, и ответил ей невпопад:
«Валька-то наш, дытына, глянул с пригорка на хутор и говорит: «Папаня! Зайчик лежить… Углядел!» – «Война, Петя! Война!» – кричала мать.
«Дытына, а заметил красоту», – повторяла отцовы слова через двадцать с лишним лет мать, вспомнив эту подробность в разговоре о диагоналевых брюках.
Сам Валентин слов этих своих, конечно, не помнил, и не знает он, с чего у него замирает сердце, когда с пригорка он видит этого большого зайца с прижатыми ушами – белокипенного зимой и когда цветут абрикосы, и серо-зеленого, притрушенного летней пылью. Хутор-заяц. Этим словом он был и заклеймен в свое время, когда исхитрился в войну прожить, считай, без войны. Более того, в достатке. Эта удивительная история его хутора жгла журналистские потроха Валентину Кравчуку. Ах, какой ни на что не похожий можно было сварганить материал! Как-то поделился идеей с Виктором. Тот сказал категорически: «Вот этого не надо… Горецкий – личность смутная, а как ты без него будешь про все рассказывать?» – «Так я о нем и хотел…» – «Не надо, Валек! Да и Николаю будет неприятно… Не трогай то, от чего не будет пользы… А история вашего хутора – она не безвредная, Валек!»
История была такова. Хутор лежал в восьми километрах от центральной усадьбы – станицы Раздольской. Ныне Раздольская – райцентр, с фонтаном возле райкома партии, с городской девятиэтажкой напротив него же. На девятом этаже, к слову говоря, живет сестра Валентина – Галина, главный хирург Раздольского. Лифт ходит только до восьмого этажа, так почему-то получилось у строителей, и два марша к ней надо идти пешком. Племянник Петрушка расписал стены вдоль маршей в стиле Давида Сикейроса. Другому бы не поздоровилось, но то, что не положено быку, позволено сыну главного хирурга. Пойди найди в городе семью, в которой бы не нашлось самого завалященького хирургического повода. Рисуй, мальчик, стены, как хочешь, все снесем, даже абстракционизм, ради хороших отношений с твоей мамой. Знал, у кого родиться, вольный художник Петрушка.
Восемь километров, что отделяли и до сих пор отделяют – не поддаются географические расстояния волюнтаристскому пересмотру – Заячий хутор и центр – непростые восемь километров. Лежат они через громадный овраг с обрывистыми откосами, поросшими сплошь колючим репейником. Сейчас через овраг переброшен мост на бетонных сваях. Но года не проходит, чтоб на этом мосту чего-нибудь не случилось. Обязательно кто-то сверзится. Есть на земле такие заклятые места. И никаких перспектив на улучшение ситуации не предвидится. Машин все больше, с водкой тоже перебоев еще не было, так что каждый садящийся в рейсовый автобус, который регулярно, четыре раза в день, ходит в хутор, всегда мысленно или совершенно откровенно крестится на стоящую невдалеке раздольскую церковь. Но, как говорится, кому на роду написано свалиться в Заячью балку, тот в нее сваливается. Тут никакая церковь не поможет. Поэтому расстояние, хотя и выпрямленное бетонным мостом, субъективно осталось прежним. Если и не трудным, то неприятным.