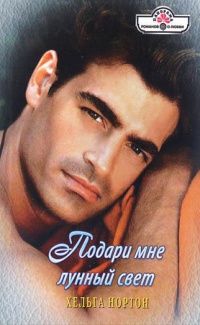Книга Связанные любовью - Евгения Перова
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Внешне отец был больше похож на бабу Паню, хотя и от деда Павы ему кое-что досталось: высокий рост, тяжелый взгляд и ранние залысины на висках. Он был стройный, подтянутый, светловолосый и голубоглазый, даже красивый, если бы не постоянная мрачность. Увидев как-то фотографию Картье-Брессона, изображающую советского офицера в Третьяковской галерее, я ахнула: вылитый отец! Та же выправка, то же выражение суровой замкнутости.
Отец не обижал нас с Гошкой, даже голоса ни разу не повысил. Покупал нам игрушки и сладости, пытался расспрашивать о наших детских делишках, но видно было, что он делает над собой усилие, да и мы не шли ему навстречу. Возможно, на нас действовал пример матери, хотя она про отца никогда худого слова не сказала. Она не перечила отцу, не вступала с ним в спор, да и вообще почти не разговаривала. При нас родители ни разу не поругались, очевидно, решая свои проблемы за закрытой дверью спальни. В квартире было три комнаты, родители занимали большую, а нам с Гошкой достались поменьше, и он обижался, что ему выпала самая маленькая, хотя мы честно тащили жребий. Мы не входили к родителям без стука, как, впрочем, и они к нам. Только однажды я нечаянно подглядела странную сцену, которая долго потом занимала мои мысли.
Мне было лет двенадцать. Неосторожно напившись вечером любимого компота, я в полночь побежала в туалет. Дверь родительской спальни была приоткрыта, оттуда выбивался свет, и я зачем-то заглянула. Прямо напротив меня на кровати сидела мать, заплетая косу. На ней была белая ночная рубашка в цветочек. Чуть повернув голову, я увидела отца: он стоял спиной ко мне – в одних трусах. Тут-то я и разглядела страшные шрамы: один под левой лопаткой, другой на пояснице справа. Отец что-то тихо говорил, но я ничего не могла расслышать из-за собственного дыхания, которое старалась сдерживать, отчего пыхтела еще больше, да и сердце колотилось где-то в ушах. Я почему-то испугалась, хотя ничего тревожного не было ни в позе отца, ни в выражении лица матери. «Катя, – расслышала я слова отца. – Умоляю тебя!» И тут мать сделала странную вещь: вытянула в его сторону ногу, а потом как бы указала ею на пол. Отец резко шагнул к кровати, и я подумала: сейчас произойдет что-то страшное! Но он вдруг рухнул на колени. Именно рухнул, я даже словно услышала грохот обрушившейся конструкции тела. Потом нагнулся, взял ее ногу за щиколотку и поцеловал подъем маленькой ступни…
Я отскочила от двери и побежала к себе. Я мало что поняла, но одно почувствовала совершенно точно: мама унизила отца, а он принял это унижение. Мой маленький мирок перевернулся: мне всегда казалось, что именно мама находится в подчиненном положении! Она на любой свой шаг спрашивала отцовского разрешения и, молчаливо подчиняясь его требованиям, лишь порой пожимала плечами или выразительно поднимала брови.
Поговорить об этом я не могла ни с кем – не с Гошкой же! Так и носила в себе долгие годы, пока наконец не узнала страшную правду и не поняла, как обстояло дело в действительности. Но про шрамы я у Гоши спросила. Он ответил, что отца ранили на войне и на службе, а больше он и сам не знал. Надо сказать, что отцовская служба у нас в семье не обсуждалась вообще – точно так же мы никогда не говорили о политике. Мы знали, что отец работал «в органах», как и дед Пава, но только повзрослев, осознали, что это за органы. Чем именно занимается отец на Лубянке, мы никакого представления не имели.
Все свои сомнения, беды и огорчения мы доверяли только маме. Она умела с нами разговаривать, а еще больше – слушать. А иногда и слов не требовалось: мама могла многое выразить улыбкой, взглядом, движением брови. Между нами существовала такая тесная связь, что мама всегда знала, где мы были и что делали – еще до наших рассказов. А сколько раз я и Гошка внезапно бросали свои занятия и шли на беззвучный зов матери, которой требовалась какая-нибудь помощь: она только подумала, а мы услышали. Когда звонил телефон, она, еще не сняв трубку, говорила, кто звонит, и всегда чувствовала приближение какого-либо важного события. В детстве мы не придавали этому особенного значения, но когда выросли, осознали, что такие способности матери весьма необычны.
После этого ночного происшествия я увидела отношения родителей в новом свете и осознала, насколько мама сильна духом и самодостаточна. Она подчинялась отцовскому диктату совершенно равнодушно, внутренне посмеиваясь, всем своим поведением словно бы говоря: «Ну что ж, коли так, будь по-твоему. Хозяин – барин». Помню, как я возмущалась, что отец не разрешает маме остричь ее длинные волосы или категорически запрещает мне носить брюки, а уж тем более входящие в моду джинсы. Мама сказала:
– Нина, какая разница, что носить? Одежда – эта рама, а ты картина. Если картина шедевр, не важно, какая рама. А ты мне вполне удалась. В любой одежде будешь выглядеть королевой.
Мама прекрасно шила и вязала, так что наряды у меня всегда были самые модные, а идеи мы с мамой черпали из журнала «Rigas Modes», а потом из «Бурды» – с условием, что они пройдут папину цензуру. Но мама умела его убедить, так что иной раз утром он отменял свой вечерний запрет.
– Я подумал, – говорил он, не глядя на меня, – и решил, что ты можешь пойти на этот день рождения. Но чтобы к девяти дома была!
– Спасибо, папа, – тоном примерной девочки отвечала я, переглядываясь с мамой, которая прятала усмешку. Конечно, возвращалась я в начале одиннадцатого.
Только после собственного замужества осознала я правоту старинной поговорки: «Ночная кукушка дневную перекукует» – и поняла, насколько отец в этом смысле зависим от мамы – он был из породы однолюбов. А «ночной кукушке» приходилось очень и очень стараться, потому что влияние бабы Пани и деда Павы было велико, и отец всегда находился как бы между молотом и наковальней, особенно когда мы все жили вместе. Правда, я этого не помню, но Гошка рассказывал мне о происходивших время от времени скандалах.
Но жизнь постепенно менялась. Через десять лет после смерти деда Павы скончалась баба Паня. Хотя она жила отдельно от нас, у всех, думаю, у отца тоже, было чувство, что убрали каменную плиту, которая давила на нашу семью и не давала вздохнуть свободно. Мама, несмотря на возражения отца, тут же устроилась на работу в районную библиотеку. Она хотела сделать это сразу, как я поступила в институт, но тут слегла баба Паня, и маме пришлось ухаживать за свекровью.
Только с началом перестройки мама стала свободно высказываться. Теперь мы бурно обсуждали все происходящие события и телевизионные репортажи, но отец по-прежнему отмалчивался или просто уходил. В собственной семье он оказался изгоем: мама по-прежнему вела дом, но отца практически игнорировала и во всем поступала по-своему, даже постриглась вопреки его запрету.
Именно тогда, в конце восьмидесятых, и проявилась его болезнь. Диагноз был известен, операция оказалась не слишком удачной, химиотерапия болезненной. От повторной операции отец отказался и медленно умирал у нас на глазах, страдая от мучительных болей и от крушения всех прежних идеалов – если они у него, конечно, были. Но привычное ему устройство мира рушилось на глазах.
Лежал он в родительской спальне на своем кожаном диване, категорически отказавшись перебираться на более удобную материнскую кровать. Он сделался раздражительным и капризным, что вполне понятно. Маме пришлось уволиться, чтобы ухаживать за отцом, что она делала спокойно и отрешенно, не срываясь и не жалуясь. Мы с Гошей помогали по мере сил.