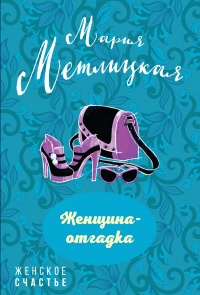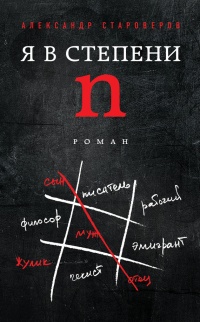Книга Германтов и унижение Палладио - Александр Товбин
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Невдомёк им, что в завораживавших Пруста куполах, подвижных и перекрашивавшихся, как и вообще в любом неуловимом предмете или лице, которые он, описывая, спасал от небытия, умещался весь мир, весь; такой огромный и сложный, такой беззащитный, хрупкий.
– Весь мир, – ссылалась Соня на чьё-то мнение, – превращался под его пером в «аналитический натюрморт».
А как, с каким богатством тембров и интонаций читала Соня… Неизгладимые впечатления, заполнившие сознание!
С какой страстью она читала… Страсть её была скрытой, сдавленной, но – неудержимой; он заражался Сониной страстью.
И снова, снова возвращался к звучанию смыслов; вроде бы простые слова, простые фразы волновали её, а слова-фразы то усыхали в шелестяще-глухие звуки, то сдавливали до шероховатого хрипа горло, то клокотали и изливались, изливались вольно, плавно и даже перекатывались, причём звонко-звонко; он вспоминал, как пела когда-то мама… О, Соня, надумавшая читать ему по-французски Пруста, чтобы сперва омыть, а затем – наполнить текучей красотой жизни детскую душу, повторял и повторял Германтов, – нашла отличную форму гипнотического воздействия. Юный Юра, как и когда-то юный Марсель, сидевший на козлах рядом с кучером, следивший за метаморфозами куполов на угасающем горизонте, не понимал причины наслаждения, которому безотчётно отдавался на сеансах Сониного чтения. Удивительно, как хорошо её музыкальное чтение проникало в него и запоминалось, и как же при этом трудно было теперь выхватывать из него осмысленные куски.
«Но немного погодя, когда мы подъезжали к Комбре и солнце уже закатилось, я увидел их в последний раз; они были теперь очень далеко и казались тремя цветками, нарисованными на небе над низкой линией полей… И в то время как мы галопом удалялись от них, я увидел, как они испуганно заметались в поисках дороги и, после нескольких неловких оступающихся движений их благородных силуэтов, прижались друг к дружке, спрятались друг за дружкой, образовали на фоне ещё розового неба одну только тёмную фигуру, очаровательную и безропотную, и в заключение пропали во мраке».
Что волновало Пруста – как будто понятно.
Но что же так волновало Соню?
Что?
Всё то, что перечувствовал и столь волнующе описал в своих нескончаемых «аналитических натюрмортах» Пруст, было и её потерянным раем? Но почему её давнее волнение, тогда, когда она читала перед сном вслух, вполне объяснимое, так остро ощущалось теперь, спустя столько лет?
«Персонажи чеховских пьес, – подумал Германтов, – кто истерически-надрывно, кто тихо и достойно, но все, увы, обречённо прощались с домом, садом, чуяли, не осознавали, а именно чуяли, что настают равнодушно-хищные торопливые времена, в которых им не найдётся места; не могли оценить масштаб того, что теряли, лишь чуяли, что что-то неотвратимое, равнодушно-враждебное уже пряталось за их репликами, шагами, жестами, пожалуй, уже разливалось и в воздухе, которым они по инерции продолжали дышать. А Пруст, восстанавливая словом утраченное, в какие бы тонкости и подробности чувств, мыслей и впечатлений ни погружался, прощался уже не с домом, не с садом как якорями жизни, а со всем своим цельным неповторимым миром». Пруст умирал – и с ним умирало всё, что он так любил, так хотел сохранить в слове: все-все природные и рукотворные, непрестанно изменчивые молекулы прекрасного, сохранявшие, однако, магическую цельность в своём единстве… И это интуитивно ощущала Соня, когда читала, это же, казалось ему, интуитивно ощущал и сам Германтов. Он не стал прустоманом под воздействием Сони, не утонул в мощном цикле романов, однако и сейчас будто бы шёл против тугого словесного ветра, несущего запахи и – бывает ли так? – сами формы овеваемых тем ветром предметов, да ещё цвета, фигуры и выражения лиц. Мощный встречный поток художественной реальности, густой, неудержимый и всеобъемлющий даже тогда, когда речь Пруста пестрела частностями; эти кажущиеся частности и были бессчётными дорогими ему молекулами огромного, уместившегося в нём времени?
Ни одну не мог упустить из виду.
И – подчиняясь чувствам своим, рассыпал мир на молекулы-бисеринки как необъятную и многомерную, Богом сотворённую и собранную из бисеринок картину… И читатель, читая, мысленно воссоздавал божественное единство?
Да, именно так – все органы чувств заключали под звуки Сониного голоса свой священный союз, не сомневаясь, что утраченное время восстановимо.
Несколько лет назад Германтов попал на вполне добротный фильм о любви Свана, где в изобилии и дотошно воспроизведены были цветники, солнечные зонтики, экипажи, шляпки, лорнеты, монокли, трости, цилиндры… О, многое он увидел, включая лица и жесты будто бы удачно подобранных актёров, у Одетты де Креси – дамы полусвета? – если верить экрану, была славная смазливая мордашка, в левом глазу Свана холодно блестел монокль. Смотрел на кино-Одетту и вспоминал, что Свану часто нравились женщины довольно низкопробной красоты, ибо физические качества, бессознательно привлекавшие его, составляли полную противоположность тем качествам, которыми он так восхищался в женских портретах или бюстах, исполненных его любимыми художниками… Фильм между тем продолжался, удалось попасть в когда-то столь желанную гостиную Одетты, вошёл вместе со Сваном в её будуар, увидел её обнажённую грудь, увидел даже, как Одетте, собиравшейся ехать в оперу, горничная протирала духами подмышки; флюиды терпких духов, сладковатой пудры… О, всё это вкупе с множеством других пикантных деталей было бы ему в его двенадцать-тринадцать-четырнадцать лет чертовски интересно увидеть-прочувствовать, но, говоря по правде, всё то, что так его тогда волновало в смутном синкретичном потоке звуков, который изливался на него во время Сониного чтения вслух, позднее, в плоском ярком и порой пахнущем даже экранном действии явно отсутствовало. Очередная и закономерная неудача экранизации? Таинственные призраки прозы представали на экране ходульными персонажами. Сван вынул из глаза монокль и вовсе стал заурядным: из омертвевшей череды знаков потерянного времени исчезало что-то неуловимое, но завораживающее, что-то, что, вдыхая жизнь в прозу, воскрешало и само время, но оказалось непереводимым на язык кино.
Однако Германтов вспомнил и о неожиданном собственном опыте «обратного перевода», если угодно, непроизвольного воссоздания зримого целого из молекул давным-давно услышанной, а затем – прочитанной-перечитанной самим прозы. «Под сенью девушек в цвету»? Да, да: вспомнил, как увидел в Нормандии, на берегу океана, солидное здание с тёмно-красными маркизками над высокими окнами и – внезапно узнал его, да, да, именно узнал, поняв вдруг, что видит материальный прустовский Гранд-отель…
И вновь зазвучал Сонин голос – купола давно исчезли в ночи, она читала уже про луч волшебного фонаря: луч, растекаясь, обволакивал сказочным изображением ручку двери, филёнку… И ещё почему-то врезались в память фразы, которые она прочла позже: «Её чуть сморщенный нос позволял увидеть две тёмные щёлочки, вылепленные, казалось, в точном соответствии с жизнью. Казалось, что её полуоткрытый рот вот-вот заговорит. Это был, однако, только восковой слепок, только гипсовая маска, только макет для памятника, только бюст для выставки…»