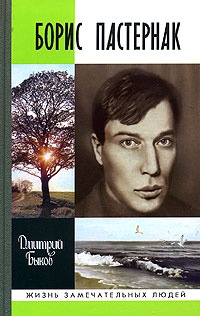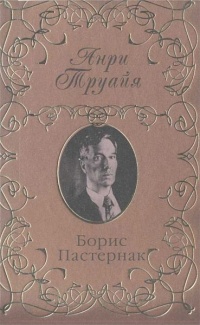Книга Пастернак в жизни - Анна Сергеева-Клятис
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
После чтения ужинали в столовой. Были Асмус, Н.Н. Вильям. Основной разговор шел с Виктором Гольцевым. Не помню, с чего он начался, но свелось к тому, что Гольцев утверждал невозможность возврата к прошлому после войны и наступление нового безусловного доверия к будущему. Больше уже не может быть несправедливых арестов, говорил он. Папочка в запальчивости кричал на него, что, напротив, его и теперь в любую минуту могут ни за что посадить.
(Пастернак Е.Б. [Воспоминания] // Существованья ткань сквозная: Борис Пастернак. Переписка с Евгенией Пастернак. С. 474–475)
* * *
Б. Пастернак не такой старый человек, как Ахматова[317], – почти наш сверстник; он рос в условиях советского строя, но в своем творчестве он является представителем того же индивидуализма, который глубоко чужд духу нашего общества. С какой стати мы проявляем своего рода угодничество по отношению к человеку, который в течение многих лет стоит на позиции неприятия нашей идеологии. Благодаря тому, что о нем не сказано настоящих слов, его поэзия может запутывать иных молодых людей, казаться им образцом. <…> А что это за «ореол», когда в жестокой борьбе, в которой проливали кровь миллионы наших людей, поэт никак не участвовал? Война прошла, а кроме нескольких стихотворений, которые ни один человек не может считать лучшими у Пастернака, он ничего не дал. Разве не правильно было мое выступление в 1943 году, когда я говорил, что переводы Шекспира – это важная культурная работа, но уход в переводы от актуальной поэзии в дни войны – это есть определенная позиция.
(Фадеев А.А. Из выступления на заседании президиума секретариата ССП 4 сентября 1946 г. // Б.Л. Пастернак: pro et contra. Т. 1. С. 929)
* * *
Именно вследствие отсутствия подлинно руководящей и направляющей работы Правления ССП стало возможным широкое распространение аполитичной, безыдейной, оторванной от народной жизни поэзии Б. Пастернака, рекламируемой некоторыми критиками (А. Тарасенков в «Знамени»).
(Резолюция президиума ССП // Литературная газета. 1946. 7 сентября. № 37)
* * *
Вчера вечером <…> я <…> был на чтении у Пастернака. Он давно уже хотел почитать мне роман, который он пишет сейчас. <…> А как нарочно в этот день, на который назначено чтение, в «Правде» напечатана резолюция Президиума ССП, где Пастернака объявляют «безыдейным, далеким от советской действительности автором». Я был уверен, что чтение отложено, что Пастернак горько переживает «печать отвержения», которой заклеймили его. Оказалось, что он именно на этот день назвал кучу народа: Звягинцева, Корнелий <Зелинский>, Вильмонт и еще человек десять неизвестных. Роман его я плохо усвоил, так как вечером не умею слушать, устаю за день к 8-ми часам… Потом Пастернак пригласил всех ужинать. Но я был так утомлен романом, и мне показался таким неуместным этот «пир» Пастернака – что-то вроде бравады, – и я поспешил уйти.
(Запись от 8 сентября 1946 г. // Чуковский К.И. Дневник 1929–1969. М., 1994)
* * *
Шел 47-й год. Конечно, Фадеев не Жданов, и выступления Фадеева против Пастернака (которые я слышала своими ушами) были не в пример легче ждановских против Ахматовой. Но вылазка Фадеева против Пастернака была следствием того же постановления 46 года. Фадеев с трибуны объяснял: «Пастернак идейно чужд», он «не наш», Пастернака недаром ценят за границей – он недаром по душе нашим врагам; он не только в собственные стихи, а и в переводы вносит вредный идейный сумбур. Фадеев, конечно, был исполнителем высшей воли, а приказ был ясен – расправиться. И расправа со стихами Пастернака шла полным ходом. Я наблюдала ее вблизи. В 1947 году я работала в «Новом мире», в отделе поэзии. Главным редактором журнала считался Симонов[318], но фактическим всевластным хозяином был его заместитель, Кривицкий. Ну вот. Однажды, в январе 47 года, Симонов поручил мне просить у Бориса Леонидовича стихи для журнала. Пастернак дал несколько стихотворений, в том числе «Март» и «Бабье лето».
– Возмутительно! – закричал Кривицкий, едва пробежав глазами «Март».
Признаюсь, я опешила. Я была совершенно уверена в полной политической безвинности весенних стихов.
– Нет, это невозможно! – надрывался Кривицкий. – Это издевательство! Это прямой вызов!
– Да в чем дело-то, где?
– Вы что же, читать не умеете?
И Кривицкий огласил крамольные строки:
Настежь все – конюшня и коровник.
Голуби в снегу клюют овес,
И всего живитель и виновник, —
Пахнет свежим воздухом навоз.
– Всего живитель и виновник – навоз! Тут целая антисоветская философия. Это значит, что все в нашей стране, в том числе и советская власть, стоит на навозе.
Я продолжала пребывать в столбняке. Расправившись с «Мартом», Кривицкий накинулся на «Бабье лето». <…>
– Приходит всему свой конец! – кричал Кривицкий. – Чему всему? Советской власти? «Лоскутница осень»! Это значит, наши люди ходят в лохмотьях… «Как в воду опущена роща»! Ходят понурые, как в воду опущенные! А «все пред тобой сожжено»? Как вам это понравится? Опять – «все»! Строй! Власть!
– Да ведь не о Красной же площади или Кремле идет речь! – ответила я, выйдя наконец из состояния столбняка и впадая в противоположное: в бешенство. Я чувствовала, что совершаю кощунство, но остановиться не могла. – Не Дворцовую площадь, не кремлевские башни предлагает поджечь Пастернак, как вы нарочно вчитываете в его стихи! Он говорит об осени! О красных осенних листьях! Осень сжигает лес! Это – лирическое стихотворение, а не призыв к бунту, который вам хочется во что бы то ни стало у Пастернака найти!
…Нашпигованный Кривицким, Симонов некоторое время колебался – между мною и им, а через несколько дней вдруг, в присутствии Кривицкого, вскользь объявил мне, что Пастернака мы печатать не будем. И попросил передать это Борису Леонидовичу. Передавать отказ я отказалась: так или иначе, а придется ведь мотивировать – не могла же я передавать Пастернаку кривицкие мотивировки! Я настаивала, чтобы Симонов сам позвонил Пастернаку. Симонов понял меня и согласился. Но Кривицкий – снова в крик:
– Незачем тебе ему звонить! Я не ожидал от него! Крупный поэт! Что за стихи он подсунул нам! Если это всего лишь о временах года, как в своей политической слепоте полагает Лидия Корнеевна, то это тоже безобразно! Ни слова о войне, о всенародных победах! И это в его-то положении, когда мы, желая его выручить, предоставили ему трибуну для покаяния!
– Мне жаль, – сказала я, – что мы вообще просили у Пастернака стихи.
– Нисколько не жаль! Просили, он дал, а мы прочли и печатать не станем. Так ему и надо. Нечего стоять перед ним на задних лапках!