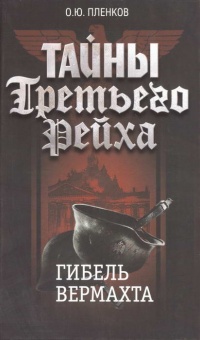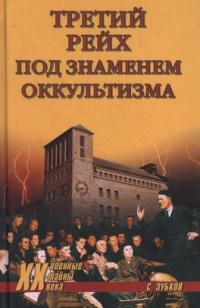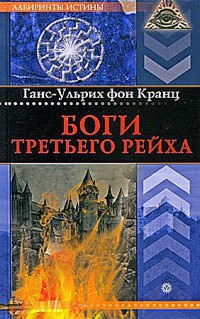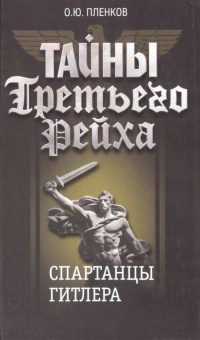Книга Дети Третьего рейха - Татьяна Фрейденссон
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
– Можете себе представить, что мы, дети, чувствовали, ожидая приближения заветного дня? Выход отца из тюрьмы был, разумеется, необычайным событием. Согласно тюремным правилам, его должны были выпустить в полночь. Ни на минуту раньше. Ровно в ноль часов должны были открыться ворота. Этого момента мы ждали двадцать лет. Обычно, когда предстоит столь ожидаемое событие, с ним связываются определенные надежды личного характера. Кажется, что, стоит, наконец, отцу оказаться дома, как все проблемы будут решены сами собой, что всё сразу изменится. Глубочайшее заблуждение. И чем выше ожидания, тем сильнее разочарование.
– Разочарование?
– Я даже во сне видел эти ворота Шпандау. Как они открываются, представляешь? – сказал Рихард, и повеяло легким мелодраматизмом. Глаза Шираха подернулись влажной пленкой, но мое сердце отчего-то не сжималось так, как сжималась оно, когда одинокая фигурка Никласа Франка, перечеркнутая тонкими карандашными штрихами дождя, брела вдоль тюремной стены в Нюрнберге; когда Элизабет Геринг, с глазами, смотрящими внутрь себя, пела песни в лимском кафе, и я видела, что она где-то далеко-далеко, в непонятных туманах и черно-белом мире…
Впрочем – не отрицаю, – за легкой дымовой завесой цинизма, которая спасала меня от помешательства, от странностей, творящихся вокруг, от деталей, фактов, ситуаций, которые я описываю в этой книге и о которых порой умалчиваю по самым разным причинам, я вполне могла делать эмоциональные сбросы там, где их делать не следует, и быть чересчур недоверчивой тогда, когда, наоборот, нужно было довериться собеседнику, который, сжимая мою руку в своей, вводил меня в пределы чего-то, что было недоступно многим другим. Я могла смещать акценты, упускать из виду важные детали, фокусируя внимание на том, что было важно лично для меня. Я не была беспристрастна. А если бы была, то меня бы просто не было…
Фон Ширах, сложив руки на груди, взглянул на меня и вдруг сказал:
– А жарко сегодня, да?
Его вопрос меня слегка обескуражил:
– Очень, – сказала я, пытаясь вернуть Рихарда в 30 сентября 1966 года. – А какая была погода, когда открылись ворота Шпандау и из них выехали две черные машины, в одной из которых сидел ваш отец?
– Было тепло, может, нет. Я не помню, – сказал он и виновато взглянул на меня. – Представляешь, что это такое, когда ты видишь человека, которого никогда не мог обнять? Ведь я до этого ни разу не мог прикоснуться к отцу, не говоря уж о том, чтобы обнять его. И вот это происходит в первый раз, и это очень непривычно, очень непросто. Но само освобождение проходит, как в дурмане: мы, отец и трое сыновей – Клаус, Роберт и я, – сидим в отеле, курим только сигары, пьем шампанское, пытаемся сделать из этого праздник.
– Но? – предвкушала я драматическую развязку, которую предвещало погрустневшее красное лицо Рихарда.
– «Но» – это не факт и не одна ситуация. «Но» – это процесс. В один момент мы возвращаемся в реальную жизнь, и наступают будни. И ты понимаешь, что тот мир, который был создан в письмах, кратковременных и редких посещениях отца в тюрьме, – мир искусственный и очень хрупкий. И ты понимаешь, что те звуки скрипок, которые звучали в наших письмах, словно в слаженном квартете (все четверо писали ему письма), что все эти интонации – всего лишь упражнения, заученные до автоматизма на протяжении двадцати лет. Но в жизни не остается места общим фразам. Это невозможно.
Постепенно в тебе начинает расти разочарование. Я заметил, что он мной совсем не интересуется. Я думаю, он был законченным эгоистом, если судить по его отношению к детям. А ведь мы много отдали ему. Мы не отказались от него, мы продолжали любить его, писали письма, задавали вопросы. Только мы привносили жизнь в его камеру-одиночку. Но в один прекрасный момент ты понимаешь, что он даже не спросил тебя, где ты учишься, как ты жил все эти годы или хотя бы просто – как дела? Я так и не услышал этих вопросов. При этом наступает некоторое замешательство, но ты надеешься, что ему нужно время, чтобы освоиться. И первое разочарование было связано как раз с отсутствием интереса к нам. Мы не понимали, что это значит, никогда с таким не сталкивались. Но это и понятно, вряд ли найдется кто-нибудь еще, кто просидел больше двадцати лет в одиночке. К тому же у них у каждого была своя судьба, кого-то из них заключение, что называется, сломало. Мы подмечали разные необычные вещи. Например, отцу было очень трудно приспособиться к новым реалиям. Он пытался вырезать ножницами таблетки в упаковке из фольги, которые можно выдавить пальцем. И когда я это увидел, я очень остро осознал: Боже мой, ведь он всего этого не знает, он пропустил огромную часть жизни. Ведь он не видел, как восстанавливались города, он не знает современных телефонов, он никогда не видел факса, и вряд ли знает, что это такое. С другой стороны, мы, возможно, требовали от него слишком многого. Он мог говорить с нами, как любой другой человек, из газет он получал практически всю информацию, просто не сталкивался со многими вещами в реальной жизни. Тогда нам показалось, что, наверное, мы ведем себя с ним неправильно. Но, к сожалению, инструкций по обращению с бывшими заключенными не было. И я понял, что вместо того, что я называю эмпатией, появляется охлаждение.
– Рихард, вы сказали «первое разочарование», а когда было… последнее?
Мой собеседник криво улыбнулся губами Бальдура фон Шираха:
– Главный сигнал отчуждения прозвучал, когда отец писал мемуары и хотел, чтобы я прочитал их и, может быть, отредактировал, короче, как-нибудь поучаствовал, ведь я всё-таки связан с литературой… Но я сказал, что не буду их читать, что у меня нет никакого желания, что я сыт этим по горло, что двадцать лет был за него, моего отца, что я наконец-то свободен и сейчас намерен отправиться с другом в Италию. Это его очень задело. Ты же понимаешь – только так я мог освободиться, мог избавиться от тени, которая висела над всем моим детством, моей юностью. Мог, наконец, освободиться от этого извечного «ты уже написал письмо? нет еще? Так пиши… пиши… пиши…». Я помню, как это давило на меня. Как-то из чистого упрямства я решил больше не писать ему в тюрьму. Меня так мучили угрызения совести, что я продержался всего три недели. Даже тут он меня сломал…
Наконец, жалость, подступила к моему горлу тяжелым комком, который невозможно было проглотить. Жалось не к Рихарду. Как ни странно, как ни глупо, к его отцу. Нет, не к нацистскому преступнику фон Шираху, а к пожилому человеку с дурацким именем Бальдур, которое я, забавы ради, даже дала своему новому плюшевому мишке. К человеку, преданному всеми и вся. Человеку, который способствовал хаосу, создавая порядок так, как он понимал это. Человеку, которому и правда было бы лучше принять яд или бежать в Америку. Самая страшная казнь для идеалиста – пусть и нацистского чудовища – это видеть крушение всех идеалов, не только политических. Не сомневаюсь, что у Бальдура была и своя история отношений с остальными детьми, с которыми он два года спустя после выхода из тюрьмы умудрился расплеваться, – Рихард не захотел об этом говорить. Я подумала, что в истории нашего Бальдура всё было сложнее, чем в скандинавском мифе. Там коварный Локи принял обличье великанши Токк. Здесь, в реальности, Локи появлялся перед Бальдуром в самых разных обличьях, от Гитлера до младшего сына. Рихарда.