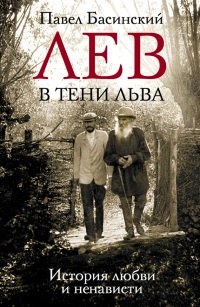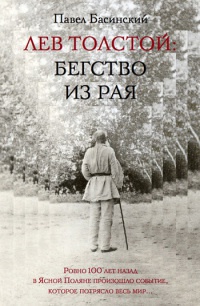Книга Книга о русских людях - Максим Горький
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Морозов, скромно сидевший в углу, сказал спокойно и негромко:
— Я не считаю правительство настолько разумным, чтоб оно поняло выгоду конституции для него. Если же обстоятельства понудят его дать эту реформу, — оно даст ее наверняка в самой уродливой форме, какую только можно выдумать. В этой форме конституция поможет организоваться контрреволюционным группам и раздробит и революционную интеллигенцию и, конечно, рабочих.
Вспыхнул ожесточенный спор; выслушав многословные и обильные возражения, Савва иронически улыбнулся:
— Если мы пойдем вслед Европе даже церемониальным маршем во главе с парламентом, — все равно нам ее не догнать. Но мы ее наверное догоним, сделав революционный прыжок.
Кто-то крикнул:
— Это будет сальто-мортале, смертельный прыжок!
— Может быть, — спокойно ответил Савва.
Его революционные симпатии и речи все-таки казались загадочными, но они стали более понятны мне после одной беседы о Ницше. Рассказывая, как А. П. Чехов жил у него в пермском имении, Савва, между прочим, сказал:
— Начал Антон Павлович читать Ницше, но скоро бросил книгу: «Он, говорит, оглушает меня, как двадцать барабанщиков».
Я спросил Савву, — а как он думает о превосходном немецком пиротехнике?
— Это вполне понятное явление после Шопенгауэра и Гартмана. Ницше так же полезен для прусской политики, как был полезен для нее Бисмарк. Кто-то уже указал на их сродство. А вне отношения к немцам, Ницше — для меня — жуткий признак духовного оскудения Европы. Это — крик больного о его желании быть здоровым. Изработалась эта великолепная машина и скрипит во всех частях. Она требует радикального ремонта, но министры ее — плохие слесаря. Только в области экспериментальных наук и техники она продолжает свою работу энергично, но совершенно обессилела в творчестве социальном. Ницше пробовал создать новую идеологию, но в существе своем идеология эта уже дана в философских драмах Ренана. Книги Ницше нечто вроде экстракта Броун-Секара, даже не тот «допинг», который дают лошадям на бегах, чтоб увеличить их резвость. Я читал эти книги с некоторым отвращением и, пожалуй, злорадством. Европа относится к нам свински, и, понимаешь, немножко приятно слышать, когда она голосом Ницше да подобных ему кричит от боли, от страха, предчувствуя тяжелые дни. Славянофильство, народничество и все другие виды сентиментального идиотизма — чужды мне. Но я вижу Россию как огромное скопление потенциальной энергии, которой пора превратиться в кинетическую. Пора. Мы — талантливы. Мне кажется, что наша энергия могла бы оживить Европу, излечить ее от усталости и дряхлости. Поэтому я и говорю: во что бы то ни стало нам нужна революция, способная поднять на ноги всю массу народа.
Мы пришли с похорон А. П. Чехова и сидели в саду Морозова, настроенные угнетенно. Гроб писателя, так «нежно любимого» Москвою, был привезен в каком-то зеленом вагоне с надписью крупными буквами на дверях его: «Для устриц». Часть небольшой толпы, собравшейся на вокзал встретить писателя, пошла за гробом привезенного из Маньчжурии генерала Келлера и очень удивлялась тому, что Чехова хоронят с оркестром военной музыки. Когда ошибка выяснилась, некоторые веселые люди начали ухмыляться и хихикать. За гробом писателя шагало человек сто, не более; мне очень памятны два адвоката, оба в новых ботинках и пестрых галстуках. Идя сзади их, я слышал, что один говорит об уме собак, другой расхваливал удобства своей дачи и красоту пейзажа в окрестностях ее. А какая-то дама в лиловом платье, идя под кружевным зонтиком, убеждала старика в роговых очках:
— Ах, он был удивительно милый и так остроумен…
Старик недоверчиво покашливал. День был жаркий, пыльный. Впереди процессии величественно ехал толстый околодочный на толстой белой лошади. Все это и еще многое было жестоко пошло и несовместимо с памятью о крупном и тонком художнике.
Проводив гроб до какого-то бульвара, Савва предложил мне ехать к нему пить кофе, и вот, сидя в саду, мы грустно заговорили об умершем, а потом отправились на кладбище. Мы приехали туда раньше, чем пришла похоронная процессия, и долго бродили среди могил. Савва философствовал:
— Все-таки — не очень остроумно, что жизнь заканчивается процессом гниения. Нечистоплотно. Хотя гниение суть тоже горение, но я предпочел бы взорваться, как динамитный патрон. Мысль о смерти не возбуждает у меня страха, а только брезгливое чувство, — момент погружения в смерть я представляю как падение в компостную яму. Последние минуты жизни должны быть наполнены ощущением засасывания тела какой-то липкой, едкой и удушливо-пахучей средой.
— Но ведь ты веришь в бога?
Он тихо ответил:
— Я говорю о теле, оно не верит ни во что, кроме себя, и ничего кроме не хочет знать.
В ограду кладбища втиснулась толпа людей, священники начали церемонию погребения, потом резкий, неприятный бас угрожающе возгласил:
— Вечная память!
Мне казалось, что к женщинам Морозов относится необычно, почти враждебно, как будто общение с женщиной являлось для него необходимостью тяжелой и неприятной. «Девка» — было наиболее частым словом в его характеристиках женщин, он произносил это слово с брезгливостью сектанта. А однажды сказал:
— Чаще всего бабы любят по мотивам жалости и страха. Вообще же любовь — литература, нечто словесное, выдуманное.
Но он говорил на эту тему редко, всегда неохотно и грубо.
Я замечал, что иногда он подчиняется настроению угрюмой неприязни к людям.
— Девяносто девять человек живут только затем, чтоб убедить сотого: жизнь бессмысленна! — говорил он в такие дни.
Он упорно искал людей, которые стремились так или иначе осмыслить жизнь, но, встречаясь и беседуя с ними, Савва не находил слов, чтоб понятно рассказать себя, и люди уходили от него, унося впечатление темной спутанности.
Как-то осенью, дождливым днем, он сидел у меня в комнате гостиницы «Княжий двор», молча пил крепкий чай и назойливо стучал пальцами по столу. Дождь хлестал в окно, по стеклам текли потоки воды, было очень скучно, казалось, что вот стекла размоет, вода хлынет в комнату и потопит нас.
— Что с тобой? — спросил я.
— Сплю плохо, — неохотно ответил Савва, сморщив лицо. — Вижу дурацкие сны. Недавно видел, что меня схватили на улице какие-то люди и бросили в подвал, а там — тысячи крыс, крысиный парламент какой-то. Сидят крысы на кадках, ящиках, на полках и человечески разговаривают. Но так, знаешь, что каждое отдельное слово растягивается минут на пять, и эта медленность — невыносима, мучительна. Как будто все крысы знают страшную тайну и должны сказать ее, но — не могут, боятся. Отчаянно глупый сон, а проснулся я в дикой тревоге, весь в поту.
И вдруг, вскочив, он забегал по комнате, нервно взвизгивая и скаля зубы:
— Нет, подумай! Эта бесшабашная сволочь, эти анархисты в мундирах сановников, — вот! — затеяли войну. Японцы бьют нас, как мальчишек, а они — шутки шутят, шуточки! Макаки, кое-каки и прочее… Бессмысленно, преступно…