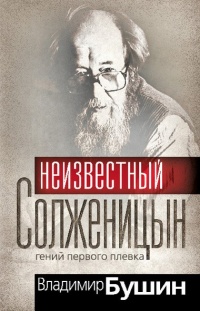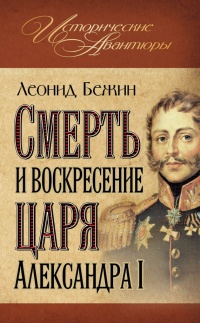Книга Воскресение в Третьем Риме - Владимир Микушевич
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Не успеешь выбежать из дому
Ни назад не глянешь, ни вперед;
Солнцем подожжет весна солому
Целиком глаза в себя вберет.
И над этими глазами весны, курлыкая, крякая и гогоча, кружили перелетные птицы:
И увидишь ты свои угодья,
В новолунье различишь свой герб
Лебединым оком половодья,
Синевой с хрусталиками верб.
И тут же возле студено вскипавшей воды пробивались цветы, млечные подснежники, голубые пролески, солнечно-желтая мать-и-мачеха. И на мрачном по-весеннему фоне хвойного леса выделялась черная рамень лиственного, пока еще коричневатая на солнце, – грифельная доска, сквозь которую начинают пробиваться зеленые письмена.
Каждый день Платон Демьянович надолго погружался в это звучное, изобразительное изобилие, отвлекаясь от рукописи, привезенной с собой. Вероятно, он готовил к печати «Жертвоприношение в истории», но, может быть, там, в здравнице, появились и первые наброски книги «Материя мифа», где так ощутимы веяния природы, чувственно-упоительный диалог со стихиями. Но в кратовской здравнице Чудотворцев частенько отвлекался от рукописей, привезенных из Москвы, и начал писать кое-что другое. Дело в том, что свою комнату он делил не с кем иным, как с Гавриилом Правдиным, и обоим было о чем поговорить. На них обоих действовала головокружительная весна, располагавшая к бессонницам, хотя соловьиное пение они услышали лишь в конце своего здравничного срока. У обоих были поводы не спать по ночам, что располагало философов к длинным разговорам, но ночные разговоры пришлось прекратить не только по требованиям режима: и Чудотворцев, и Правдин вскоре заподозрили, что режим проявляется не только в запрещении разговоров, но и в подслушивании из-за стены или даже из-за двери в коридоре. Первым насторожился Чудотворцев, чей слух обострялся по мере того, как зрение слабело. Он дал себе труд зажечь лампу (они разговаривали в темноте) и на листке бумаги написал: «Не подслушивают ли нас?» Гавриил Львович усмехнулся и черкнул свой вопросительный ответ на том же листке: «Неужели у нас появились анонимные эккерманы?» Этот намек на «Разговоры с Гёте» заставил Платона Демьяновича тоже улыбнуться. Оба философа сперва отнеслись к подслушиванию с юмором. Они не говорили ничего такого, за что советская власть могла бы их преследовать, а времена, когда расстреливают за случайное слово, прошли, хотелось бы верить, и еще не вернулись. Но к осторожности призвал Платона Демьяновича как раз Гавриил Львович, громко напомнивший, что по ночам нужно спать, и вполголоса тут же предложивший Платону Демьяновичу записать свои интереснейшие аргументы, что Платон Демьянович и сделал, не гася лампы. Гавриил Львович утром прочитал их и утром же сел писать ответ. Так началась переписка двух микрокосмов, разместившихся в одной комнате. Любопытно, что ни тот ни другой не заметили каких-либо попыток читать эти письма, хотя они открыто лежали на ночных столиках (письменный стол был в комнате один, и они писали за ним, сидя друг рядом с другом), а в комнату, когда философы отправлялись на прогулку, каждый день заходили под предлогом уборки. Судя по всему, то, ради чего велось подслушивание, можно было только услышать, а не прочитать.
Гавриил Львович держался тогда с наигранным оптимизмом, сквозь который прорывалась, однако, тревога, смятение, даже отчаяние. Февральская революция решила главную проблему его личной жизни, узаконила его брак с Ольгой Евграфовной, и его дочери Анна и Елизавета перестали быть незаконнорожденными. Но законность этих его почти взрослых дочерей оказалась призрачной, так как советская власть вообще отвергла различие между детьми законными и незаконными, поскольку не стало ничего законного… после разгона Учредительного собрания, – добавлял Правдин вполголоса. Гавриил Львович писал Платону Демьяновичу что история знает революции двух типов: революцию Закона и революцию беззакония, но поскольку само слово «революция» означает «возврат», революция возвращается к Закону возвращает миру Закон, и такой революцией в России была Февральская революция. В этом смысле Правдин понимал стихи Осипа Мандельштама:
Ну что ж, попробуем: огромный, неуклюжий,
Скрипучий поворот руля.
Самодержавие было беззаконно, ибо оно устанавливало власть, основанную не на Законе, а на воле, пусть это даже воля Божья, но, насколько человеку известно, с волей Божьей совпадает Закон, и иначе, как через Закон, воля Божья не проявляется.
Чудотворцев отвечал на это, что законных революций не бывает: революция всегда направлена против закона, движимая и обуреваемая стихией. Революция напоминает человеку что воля Божья непостижима, а Закон, даже если он от Бога, – лишь адаптация Непостижимого к человеческому пониманию. Таковы даже законы природы, которые говорят больше о человеческом сознании и об его ограниченности, чем о безграничности бытия, что подтверждается и современной физикой, усматривающей в законах лишь статистически распространенное: до сих пор, как правило, бывало так, но это вовсе не значит, что иначе быть не может. Иными словами, закон есть слишком человеческое, а человек рано или поздно восстает против слишком человеческого, и он прав; «ибо сила греха – закон» (1 Кор., 15:56). Революция есть чаяние чуда, без чего человек впадает в бесчеловечное, а бесчеловечного в нем хоть отбавляй.
Правдин отвечал на это, что если даже сила греха – Закон, значит, нет другой силы в мире, и вне мира, а грех (в частности, революция беззакония) есть лишь злоупотребление тем же Законом, ибо, не будь Закона, не было бы и злоупотреблений. Но если Закон един для всех времен и народов, какой смысл имеет существование различных государств? Разве все войны и, в конце концов, мировая война происходят не от этого различия? Худший источник зла – государственные границы: «Они пахнут трупами». (Тут Гавриил Правдин процитировал Велимира Хлебникова.) Соединенные Штаты Европы могли бы стать вторым шагом к Соединенным Штатам Земного Шара (первым шагом были Соединенные Штаты Америки). Точно так же дело ближайшего будущего – соединение Евразии и Еврафрики (термин «Еврафрика» предложил, насколько мне известно, именно Гавриил Правдин возводя его к Римской империи, видя в ней торжество Закона вместе с Иосифом Флавием, писавшим: «И если тебя кто-нибудь спросит, где твое счастье, где твой Бог, ответь: в большом городе Риме». В этом смысле Гавриил Правдин понимал и принимал Третий Рим, если в нем установится Закон, распространяющийся на весь мир, чем, по учению Гавриила Правдина, не может не завершиться мировая война, впадающая в мировую революцию и в конечном счете совпадающая с ней). «Мой исторический оптимизм непоколебим», – писал Правдин, хотя в самой категоричности такого заявления таилось, как было сказано, нечто иное. Гавриил Правдин настаивал на том, что он признает мировую революцию Закона, и это приводило в особую ярость Михаила Верина, усматривавшего в революции Гавриила Правдина настоящую контрреволюцию и, хуже того, пародию на то, что считал революцией он сам. Особенно бесило его скрытое родство и даже конечное тождество обоих концепций, которого он не мог не чувствовать: и то и другое было перманентной революцией, которую Михаил Верин отстаивал с пеной у рта, а Гавриил Правдин объявлял революцию Михаила Верина революцией беззакония. Но Правдин и на этом не остановился: по мнению Михаила Верина, его брат дискредитировал и другую марксистскую идею, если не говоря прямо об отмирании государства, то подразумевая его. Гавриил Правдин подтверждал в письме к Чудотворцеву, что разделение властей отпадает во всемирном царстве Закона: какая может быть законодательная власть, когда Закон дан раз навсегда, а тогда исполнительной властью пользуется каждый законопослушный гражданин, ибо что ему еще и делать, если не исполнять Закон. Из трех властей, установленных Монтескье, остается лишь власть судебная, основанная на толковании Закона. Гавриил Правдин объявлял нормой и целью истории не Книгу Царств, а Книгу Судей, напоминая, что Бог осудил израильтян, когда они потребовали себе царя вместо судьи, хотя у них уже был Закон, и требовать себе нечто кроме и сверх Закона означает революцию беззакония. Торжество Закона в мире, по Гавриилу Правдину, означает, естественно, конец истории, о котором Правдин, как и Чудотворцев, заговорил задолго до Фукуямы, но, в отличие от Чудотворцева, в духе своих Соединенных Штатов объявлял конец истории не только позитивным, но и сакральным.