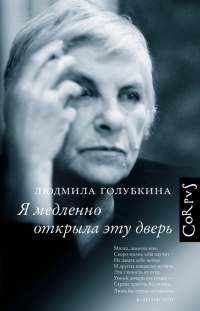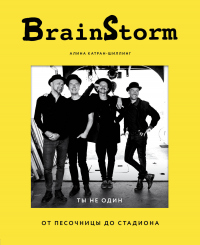Книга Девятый круг. Одиссея диссидента в психиатрическом ГУЛАГе - Виктор Давыдов
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Существовало сразу несколько рынков, где обменивалось все — от казенных тапочек до пайковых масла и картофельного пюре. Ну и, естественно, зэки, получавшие передачи из дома, торговали присланными им продуктами. Особенно шиковали дальневосточники, которым из Магадана, Петропавловска-Камчатского и Владивостока присылали копченого лосося, банки красной икры и крабов. Все это имело высокую цену — если учесть, что в своей вольной жизни санитары никогда не видели ничего такого и в глаза.
Обычно продукты продавались за сигареты и табак. Как и всякий свободный рынок, этот тоже испытывал флуктуацию цен. За несколько дней до ежемесячной отоварки санитаров, когда они сами сидели без табака, цены подскакивали, и тогда за пачку сахара трудно было получить больше пол пачки махорки. В день санитарской отоварки цены резко падали, и та же килограммовая пачка сахара легко обменивалась на две пачки сигарет. Закон спроса и предложения в спецпсихбольнице работал не хуже, чем на чикагской товарной бирже.
На этом рынке использовались и более сложные инструменты вроде фьючерсов. Ожидавший посылку зэк мог договориться с санитаром, что в обмен на табак сегодня отдаст ему сахар или консервы через неделю. Как и положено, фьючерсы имели свой премиум, а также несли определенные риски. Если в оговоренный срок санитар не получал платежа, то втыкал стальной ключ должнику под ребра — в порядке напоминания.
Это было неприятно, но обычно становилось следствием медлительности почты. Намеренно «фуфло» никто не толкал — где-где, а в сумасшедшем доме дураков подставлять свои ребра под ключ не было.
Моим обычным поставщиком циклодола был старший санитар по кличке Копченый. У него была и фамилия, но даже медсестры часто звали его «по кличке», ибо она идеально описывала носителя. Это был невысокий жилистый мужик с цветом кожи, напоминавшим окраску орехового дерева, — результат многолетнего и беспробудного пьянства. По жизни Копченый был милиционер — вернее, простой шофер милицейского уазика, но все же сержант. На этом уазике и, естественно, по пьяни он въехал в толпу пассажиров на остановке, сбив четырех человек.
Так же, как санитары Побережный и Сашко из Первого отделения, Копченый происходил из семьи украинцев, депортированных в Амурскую область в 1940-х. Назвать их «украинцами», впрочем, можно было с большой натяжкой. Выросшие в украинских семьях, все они были абсолютно обрусевшими. Никто не говорил на «мове» — и выучивал разве что несколько слов от зэков с Украины. Никто не знал украинских традиций, и почти никто никогда не бывал на родине. Ну и, как среди прочих людей, среди них тоже попадались сволочи и приличные люди. Копченый относился к последним, за что зэки его уважали — даром что некогда был мент.
Хорошие отношения удалось установить еще с одной сменой санитаров, но всего их было четыре, прочие две, как назло, были, «солдатские». Старшими там были парни, попавшие в тюрьму прямо из армии. Из-за решетки вооруженные силы СССР выглядели некой странной армией времен Тридцатилетней войны. Там жестоко и насмерть били, офицеры вымогали у солдат деньги. Тот, кто не мог получить их от родственников, вынужден был заниматься кражами, грабя по ночам магазины, гаражи и склады. В военных городках эти преступления не расследовались — там все и так знали, кто их совершил.
За дезертирство обычно отправляли в армейский дисциплинарный батальон, так что для того, чтобы попасть в тюрьму, надо было сделать нечто из ряда вон выходящее — например, дезертировать с оружием, ну, или еще чаще, «деды» попадали за убийства «салаг», как попал в тюрьму тот же Азиз.
«Солдатские» смены были самыми жестокими. Парни никак не могли понять, что они уже больше не в армии, а зэки в тюрьме. Они раздавали подзатыльники и пинки направо-налево, с удовольствием ловили курящих в камере, докладывая об этом медсестре. Договариваться с этими деревенскими гопниками было бесполезно. Они хорошо понимали слово «украсть», но слово «контракт» было для них совершенно иностранным. Даже получив плату, условий контракта они никогда не соблюдали — примерно как и российские власти до сего дня.
В Третьем отделении чаще всех били самых слабых — пожилых, малолеток и тех, кто получал большие дозы нейролептиков. В надзорной камере били Цыгана. Цыгана звали Олег, и он не был цыган — получил свою кличку за смуглый цвет кожи и курчавые волосы. Цыгану была назначена мегадоза галоперидола — кажется, 70 миллиграммов, — и ему постоянно приходилось двигаться, чтобы не сойти с ума. Зэки это понимали, так что даже не просили дать место в проходе, просто пристраиваясь ему в хвост.
Каждому новичку, который бродил с ним в паре, Цыган рассказывал свою безумную историю — слишком безумную даже для сумасшедшего дома. Еще по малолетке он попал в тюрьму за кражу из магазина, в зоне раскрутился на второй срок, после освобождения завязал и тихо жил, кажется, в Ангарске или в каком-то другом городке Иркутской области.
Неожиданно там произошло жуткое преступление. Поздним вечером на железнодорожных путях убили женщину — как выяснилось позднее, убийца действовал килограммовой гирей, привязанной к веревке. Убийство произошло исключительно с целью ограбления, преступник забрал обручальное кольцо и кошелек, следов изнасилования не было.
На другой день милиция свезла всех ранее сидевших в КПЗ и начала выбивать из них явку с повинной. Цыган проходил подозреваемым номер один.
Во-первых, он жил недалеко от железной дороги, и, во-вторых, у него не было алиби. Будучи под надзором и не имея права выходить из дома по вечерам, Цыган честно там и сидел во время убийства. В то время он занимался дрессировкой двух белых крыс, которые, к сожалению, дать показания в его пользу не могли.
Советская милиция показала Цыгану лучшее, на что была способна. Его просто били, били ногами «в кружок», делали «слоника» — надевали на голову противогаз и перекрывали дыхательный клапан. Когда Цыган терял сознание, обливали водой и снова надевали противогаз. Подвешивали вниз головой за ноги на наручниках и били дубинками.
В какой-то момент Цыган понял, что больше вынести всего этого не сможет, и решил покончить с собой. С философской точки зрения, наверное, это выглядело странным, ибо для того, чтобы расстаться с жизнью, ему было достаточно сделать именно то, чего менты от него и добивались — подписать бумагу. Однако, когда я высказал это предположение, Цыган возмутился — он даже рефлекторно начал тереть левую сторону головы, по которой ему, видимо, слишком сильно били в КПЗ.
Цыган заявил, что ни за что не взял бы на себя такого гадкого преступления. Была и вторая причина: таким образом Цыган намеревался отомстить ментам. Суицид, конечно бы, списали, не заметив на теле и синяка. Однако ментам неизбежно пришлось бы давать объяснения начальству, так что с педагогической точки зрения, умирая, Цыган делал доброе дело — рисовал ментам черту, за которую заходить нельзя.
В любом случае план суицида был плохо продуман. Цыган сидел в камере, где не было даже крючка, чтобы удавиться. Никаких колющих-режущих предметов под рукой тоже не было. Тогда он стащил шариковую ручку со стола у следователя и решил как орудие самоубийства использовать ее.