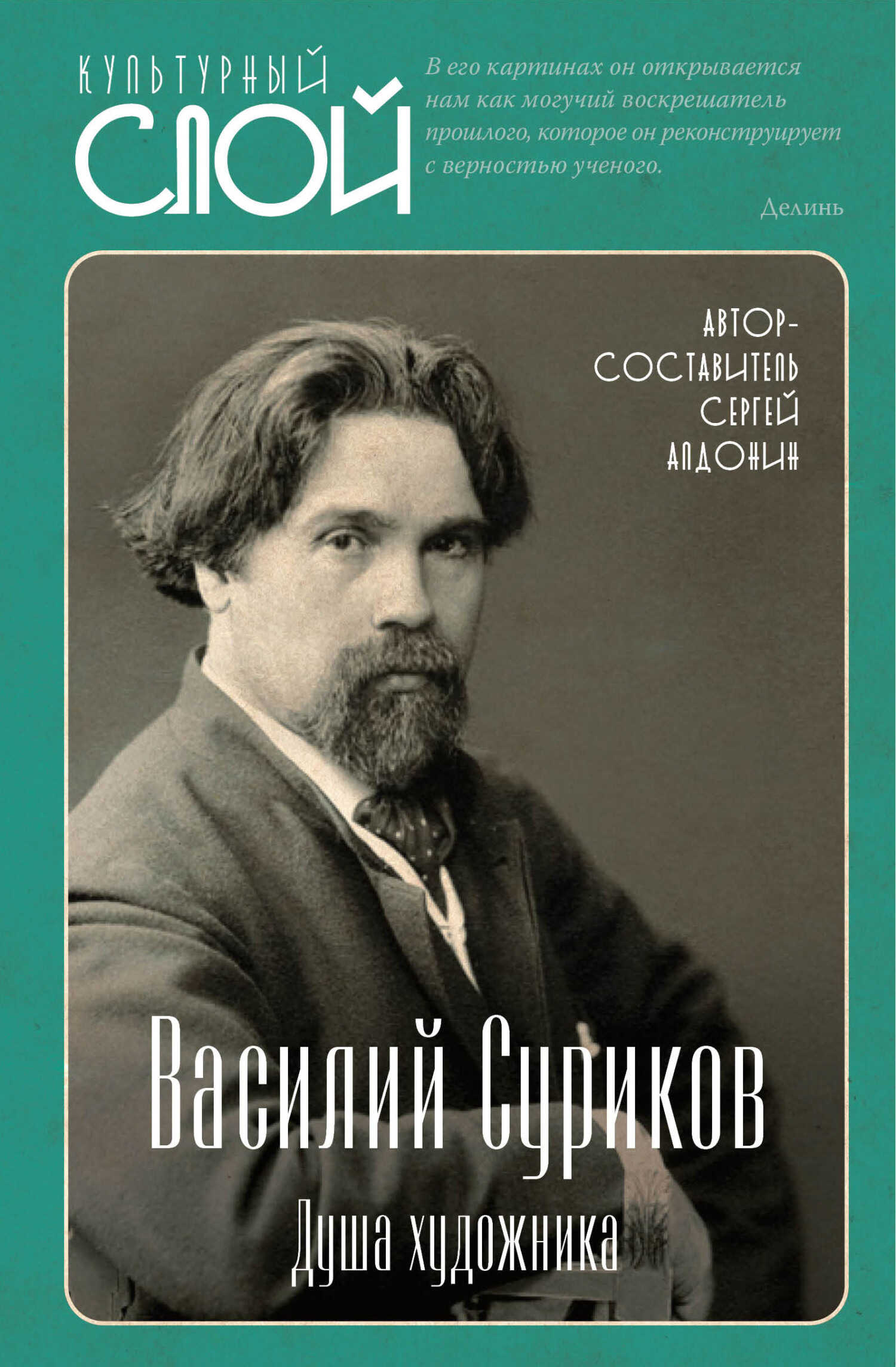Книга То было давно… - Константин Алексеевич Коровин
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
– Убьют. Нешто разберут – фальшивый аль нет. Беспременно убьют…
В вагоне 3-го класса стекла выбиты. Вагон набит битком. Мешочники, солдаты, крестьяне.
Я примостился на лавочке с краю. На полу внизу сидели бабы с детьми, рабочие, и все тотчас же стали смотреть на мою руку, на которой блестело кольцо. Стоящие тоже смотрели.
В разбитые окна вагона были видны мелькающие леса, сжатые поля – печальная осень.
Сквозь толпу пассажиров в вагон протиснулся человек в черной кожаной куртке и черном картузе. У пояса висел наган. Приблизившись ко мне, он прогнал баб и сел против меня. Посмотрел на кольцо и спросил, наклонившись близко ко мне:
– Пятерку дали?
– Нет, – ответил я, – два рубля.
– Я-то вижу… – сказал человек в куртке и улыбнулся.
Смотрю – Василий покосился на меня и пошел к дверям, сделав и мне знак глазами, чтобы я уходил.
– Товарищ, – сказал мне шепотом человек с наганом, – сымите кольцо, а то народ волнуется. Весь вагон глядит – думают, настоящее.
Я снял кольцо и спрятал в карман.
– А вы, товарищ, элемент будете?
– Элемент, – отвечаю.
– Нетрудовой?
– Нет, трудовой.
Сжав кулаки, я показал ему руки. Он поглядел и сказал:
– Правая много боле. Чего ж, на заводе что вертите или что?
– Кистью верчу с краской туды-сюды.
– Вот, вот, – ответил он. – А кольцо-то вам зачем?
– Обменять хочу, товарищ. Может, десяток яиц дадут.
– Не надевайте, а то арестовать велят. – И он ушел.
В другом вагоне я нашел Василия. Мы слезли на станции и пошли осенней, покрытой лужами дорогой.
Тих был осенний вечер. В далеком небе раздавались гортанные звуки летящих журавлей. Унылы и печальны показались мне знакомые места, речка и моя родная земля. Дом мой был тосклив и жалок. Не встретили меня мои собаки – их уже не было. Не было и сторожа Дедушки.
Я зашел к соседу, к тетушке Афросинье. Она обрадовалась, увидав меня.
– Заварю, заварю, – засуетилась она, – сейчас мятки заварю. Чаю нет, сахару нет. Лепешки принесу. Спрятала, а то отбирают.
– Тетушка, – говорю, – у меня мука в доме есть. Возьми. Боле пуда.
– Да что ты? Эка! Всё взяли: и подушки, и самовары – всё. Какая мука? Чаю что, поди! И чего это? Отбирают!..
Я сидел и пил теплую мяту.
– Давно не были, – сказал Феоктист.
– А где же Дедушка?
– То тут, то там. У дома держится. Обобрали и его. Сети отняли. Не вяжет боле, да и нечем. Озорство идет. Лихо дело!
– Вот, – говорю, – в мешке Василий привез одежину. Наменять на что. Вот еще кольцо фальшивое, дадут, может, яйца.
– И что ты, дорогое кольцо. Спрячь, в землю спрячь, а то убьют. Нешто можно, что ты! За одежину-то что и дадут – картошки, а муки-то мал-мала. Знать, до лета сами помрем.
Печальная луна взошла над моховым болотом. Обеднели клены, и мрачно, уныло дремал, ожидая зимы, мой милый сад. И вот в этом умирании осени вместе с садом умирало и то прекрасное, для чего я жил…
Василий подошел ко мне и сказал:
– Чего… спать-то не на чем? Всё пропало. Одеял нет…
Я ходил в темноте по моему дому, держа в руках зажженную лучинку. Всё было разбросано, перевернуто. Посуды не было. В углу кухни увидал плошку моей собаки – пойнтера Феба. Он умер давно. Я похоронил его в саду. Воспоминание о Фебе вошло в душу чем-то светлым, чистым, радостным.
Я пошел в сад, к молодому ельнику, где была могила Феба. Во мгле лунной тихой осенней ночи освещенный луной бугорок над останками моей собаки был покрыт павшими листьями.
Я присел на бугорок.
Подошел Василий.
– Гляньте-ка, бутылочку самогону достал – Захар в лесу тихонько курит. Поднес мне. Хорошо! С души прямо это самое сошло сразу. Забудешь, что и голод. Вот выпить-то – не во что налить.
– Василий, на кухне в углу плошка Фебина, тащи сюда, помой водой… Спи, мой Феб, мой верный друг, моя собака. Ты умер, полный любви к человеку, своему богу.
Вернулся Василий с плошкой. Я выпил самогону и налил Василию. Он молча выпил, как-то захлюпал и пошел с плошкой на кухню.
Осень… Безлюдье… Тоска…
Карла Маркса
Как-то, уже во время революции, я пошел в мастерскую взять свои эскизы. У ворот дома Соловейчика, где была мастерская, я увидел Василия Белова. Он стоял один и глядел рассеянно; под глазом у него был большой синяк. По улице шли люди, несли знамена с надписями «Дворцы народу!», «Свобода!»…
– Василий Харитоныч, – спрашиваю. – Что это? Ушибся? Глаз-то у тебя затек.
– Ну и свобода, – ответил Василий. – Это что же такое? Вчера я на митинге был у Страстного… Народу… Говорил, как новое начальство дома делить начнет. Кому – ежели я солдат – одно, а ежели мастер – другое. Мне, чисто Шаляпину, хлопали. Да один какой-то стрюцкий, мне в морду – хлясть. Ну за меня народ. «Как драться?! Полное право!» А стрюцкой на меня показывает: «Ишь, у него бриллиант на пальце». А у меня кольцо с бирюзой, когда в Самарканде с вами был, вы подарили. «Давай кольцо, – кричат, – бриллиант носит, сволочь!» Сняли кольцо. Чуть палец не оторвали. Насилу сбежал.
В это время мимо нас по Садовой повалила толпа с криками: «Свобода, соединяйтесь!» Шли дворники с метлами и пели «Черные дни миновали».
Василий смотрел сердито. Вдруг перед ним остановились двое и стали его разглядывать.
– Это городовой переодетый, – сказал один из остановившихся, показывая на Василия. – Ишь, морда бита.
– Городовой это, тащи его. Ишь, переоделся!
Василий закричал:
– Какое полное право!
Но Василия уже держали за руки.
Я вступился за него:
– Это вот из этого дома мастер, – говорю. – Рабочий, сознательный. Из мастерской.
– Веди его туда, узнаем, кто, – загалдели в толпе.
Василия и меня привели в мастерскую.
Когда вошедшие увидели краски, кисти и часть декорации, над которой была написана большая голова египетского фараона в тиаре (декорация изображала барельеф к балету «Дочь фараона»), один из освобожденных граждан сказал, сморкнув носом:
– Э-э, товарищи, и верно… Художники… Ишь, Карлу Марксу малюют. Вот за это, знать, его и били несознательные. А пошто у Карлы Марксы бутылка на голове? Монополия, что ли? Монополия, знать.
Ишь ты!
Через неделю Василий пришел ко мне серьезный и важный.
– Теперь я за старшого, – сказал он. – Бумагу мне дали. Главный мастер. Весь двор меня слушает, ходит смотреть Карлу Марксу.
Говорил это Василий строго, и лицо его было умственное и гордое.
Вдруг, совершенно другим голосом,