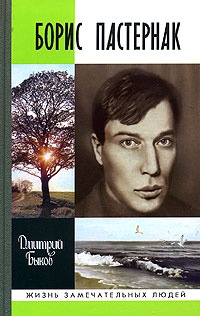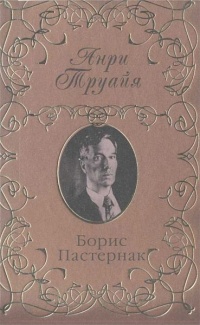Книга Пастернак в жизни - Анна Сергеева-Клятис
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
* * *
Полукруглая эстрада, затянутая серым сукном[309]. Маленький стол, на нем – лампа, стакан воды и рукописи поэта. Около стола – высокая фигура поэта в скромном черном костюме. Ему уже 56 лет, волосы его обильно тронуты сединой, но по-прежнему юношески стройна его фигура, так же энергичны и порывисты движения, тот же огонь в глазах, что был и три десятилетия назад, в пору первых литературных выступлений этого замечательного и своеобразного лирика современности. Сначала Пастернак читает старые хорошо знакомые аудитории стихи, – о дожде, о ревности, о трагическом любовном разрыве двух сердец, о природе Урала, о первом отвергнутом признании. Все это вещи двадцати-тридцатилетней давности. Аудитория знает их наизусть. Когда поэт забывает – из зала несется дружный хор голосов, напоминающих автору его собственное творение, уже ставшее достоянием многих сердец и умов. Аудитория как бы зачарована, – она в сотый раз переживает вместе с поэтом его стихи. Пастернак читает очень своеобразно. Его читка не похожа на чтение актера, – она небогата интонациями, поэт подчеркивает скорее ритм, рифму, но не смысловые ходы своих очень сложных вещей. Некоторые критики долгие годы твердили о непонятности многих стихов Пастернака массам.
Вечер в Политехническом музее – живое опровержение этой усталой легенды. Аудитория вчерашнего вечера была разнородна, здесь были молодые поэты, старые опытные редактора газет и журналов, партийные работники, библиотекари, ученые, но огромную прослойку аудитории составляли рядовые студенты и студентки, рабочие, служащие Москвы. Свыше тысячи человек около трех часов слушали своего поэта. Ни один человек не вышел. Как с самого начала вечера в зале не было ни одного свободного места, так он оставался абсолютно полон до самого конца. <…>
Гибкость и емкость поэтической формы Пастернака поразительна. Это сказывается и на чрезвычайной широте его тематического кругозора, и на умении Пастернака переводить стихи других народов. Вчера Пастернак продемонстрировал некоторые образцы поэтического перевода, – он читал грузинского романтика XIX века Николо Бараташвили, он читал Верлена и, наконец, «Зиму» и 66-й сонет Шекспира в своих переводах. Все это переведено Пастернаком виртуозно, с полным пониманием национальных и эпохальных особенностей интерпретируемых поэтов. Переводы Пастернака пользовались таким же успехом, как и его оригинальные стихи. Во время чтения этих переводов от имени неизвестных почитателей поэта на сцену принесли подарок Пастернаку – огромный куст цветущей сирени. Он был поставлен на стол. Чтение стихов продолжалось. Несколько раз поэт объявлял свой вечер законченным. Тогда публика вставала со своих мест и стоя аплодировала три, четыре, пять минут подряд. Поэт выходил снова, смущенно улыбался своей доброй, почти детской улыбкой и продолжал чтение. Вещи, еще не успевшие появиться в печати, аудитория заставляла повторять по два раза. Одно известное стихотворение, написанное еще в 1916 году («Импровизация»), поэт прочел в совершенно новом варианте. Это вызвало бурю восторга и требование немедленного повторения, что поэт охотно и сделал. Вечер прошел с каким-то особым накалом и трепетом. Он превратился в триумф тонкого и сложного лирика современности, нашедшего полный духовный контакт со своей аудиторией.
(Тарасенков А.К. Вечер Бориса Пастернака в Москве // Б.Л. Пастернак: pro et contra. Том 1. С. 904–906)
* * *
Мы с Вадимом Шверубовичем[310]попали на самый парадный, первый вечер – в Колонном зале Дома союзов. Какое же это было торжество, какой незабываемый светлый праздник русской поэзии! Сколько здесь собралось в этот вечер военной и студенческой молодежи, какие славные мелькали лица, как забиты были все входы в зал, как ломились хоры и ложи от наплыва этой толпы юношей и девушек с горящими глазами, с пылающими щеками. Каким единством дышал этот зал, хором подсказывая Пастернаку то и дело забываемые им от волнения слова, вымаливая у Ахматовой еще, еще и еще стихи военных лет, стихи о Ленинграде, стихи о любви. Она и здесь, в Колонном зале, читала негромко, без жестов, чуть-чуть напевно, стоя в своем черном платье и белой шали у края эстрады[311].
(Виленкин В.Я. В сто первом зеркале. М., 1987. С. 20)
* * *
Среди выступавших был тогда молодой, немного строивший из себя Иванушку-дурачка Михалков с баснями, за которые ему порой попадало, так что, быстро отказавшись от роли либерала, он исправился на всю оставшуюся жизнь. Тепло встречали Берггольц с ее «блокадной ласточкой», и даже Дудина <…>. Но все пришли, разумеется, ради Ахматовой и Пастернака. «Кого же еще здесь слушать», – поделился с нами сидевший рядом молодой человек, выразив таким образом мнение всех присутствующих. И действительно их принимали восторженно. Ахматова держалась строго и сдержанно и прочла немного. Пастернак начал с заявлений, что сейчас он учится писать у Симонова и Суркова, а потом, как всегда, заражающий и заряжающий слушателей своей покоряющей улыбкой и неповторимым голосом и сам загорающийся от ответного тепла и любви зала, много читал из «Земного простора», иногда сбивался, и ему тут же подсказывали.
(Баранович-Поливанова А.А. Оглядываясь назад. Томск, 2001. С. 116–117)
* * *
…Тогда, входя в мою жизнь с ковровой дорожки редакции, он прежде всего поражал диковатой, неправильной четкой скульптурностью – причем скульптура эта была сотворена гением, очевидно, не знавшим канонов и пропорций. Из-под резца этого гения вышел человек без национальности, с яркими, чуть косоватыми глазами над летящими к вискам бровями, человек, бредущий по вселенскому пейзажу.
(Ивинская О.В. Годы с Борисом Пастернаком: В плену времени. С. 17)
* * *
Недели через две, проходя по проезду, название которого я всегда забываю, я издалека заметила: выделяясь из толпы, навстречу идет молодой человек в самом весеннем настроении. Не успела я насмешливо подумать – «страстный брюнет», как увидела рядом с ним стройную блондинку с распущенными волосами и совершенно затуманенным взором. Лицо молодого человека медленно надвигалось на меня выкаченными от восторга глазами, а ноги его как-то странно шаркали по тротуару, как будто каждым шагом он пробовал через асфальт землю. Мимолетное «здравствуйте», какой-то неловкий слабый жест, и виденье исчезло. Уже через несколько дней мне было доложено, что решающее объяснение «брюнета» с «блондинкой» произошло и что ей посвящено «все последнее великое», т. е. роман и стихи…
(Герштейн Э.Г. Мемуары. М., 2002. С. 704)
* * *
А потом все начало развиваться страшно бурно. Борис Леонидович звонил мне почти каждый день, и я, инстинктивно боясь и встреч с ним, и разговоров, замирая от счастья, отвечала нерешительно и сбивчиво: «Сегодня я занята». Но почти ежедневно, к концу рабочего дня, он сам появлялся в редакции, и часто мы шли пешком переулками, бульварами, площадями до Потаповского.