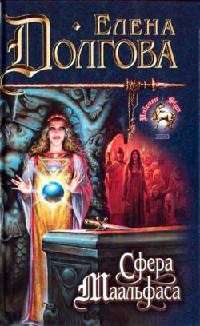Книга Мастер Миража - Елена Долгова
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Что ж – я нагнулся и тоже подобрал себе шлем по размеру. Ко мне подошел сероглазый человек, единственный из всех с непокрытой головой. Неуловимо странный, слишком правильный каленусийский выговор выдавал в нем иллирианца.
– Вы геодезист без полевого опыта? Возьмите у меня инъектор, иначе после купания в местной реке каждый ожог станет язвочкой.
Я сделал себе укол немедленно, под покрытую мелкими розовыми пузырьками ожогов кожу левой руки, и забросил в кусты пустую капсулу.
– Спасибо. Меня зовут Бейтс.
– Алекс Дезет, можно Стриж.
– Вы псионик?
– Нет, нулевик, – хладнокровно ответил он. – На меня не действуют наводки.
Я воззрился на незнакомца, еще не зная, что разглядываю будущего консула луддитов и собственного шефа. Дезет сильно отличался от Ральфа – в нем не было наносной игры в героя.
– Сегодня плохой день, – нехотя проронил он. – День поражения никогда не бывает хорошим.
– Почему? Мне показалось, что повстанцы победили.
– Вот как? Луддитов погибло вчетверо больше, чем солдат-конфедератов. Если мы будем так терять людей, рано или поздно проблема сенсов Каленусии разрешится сама собой. Они перемрут или будут убиты, подставляя друг друга. Эта война ведется неправильно – нет опыта, нет денег и нет четкой цели. Все, сверху донизу, живут несколькими часами, стремятся уцелеть до утра или дотянуть до вечера – это в лучшем случае. В самом худшем случае они погибают ради сиюминутного эффекта. Если бы Валентиан выслушал меня два дня назад, сегодня нам бы не ударили в спину.
Дезет раздавил пустую коробку от аптечки и закинул вслед за моим инъектором – в кусты. Гарь уже развеялась, с равнины потянуло сухой полынью. Мой новый знакомый криво усмехнулся.
– Впрочем, лучше вам меня не слушать – я иностранец и к тому же иллирианский офицер, пускай и в отставке, но все равно личность, которая по определению не заслуживает доверия. Сейчас дорога на запад свободна. Послушайте, Бейтс, возвращайтесь-ка в Порт-Калинус. Там скоро наведут хотя бы относительный порядок, вы не псионик, держите язык за зубами, живите спокойно, и все постепенно забудется.
– А вы?
– За мною долг, несмотря ни на что, я остаюсь.
– Любите риск?
– Совсем не люблю. Но жребий брошен, и какая теперь разница, что со мною случится?..
Я не нашелся что ответить и не решился подробно расспрашивать. Течение безымянной реки все еще уносило густые хлопья багровой пены. На отмели серебряными монетами поблескивали мертвые рыбки.
В тот день я так и остался в лагере луддитов, но не потому, что разделял их веру в Мировой Разум – я просто поддался романтике мятежа и к тому же не знал, куда деваться без денег, без оборудования, с волчьим билетом в кармане. Вечером, при свете костра, Алекс долго спорил с Валентианом, наверное, они сумели договориться, но не берусь судить, как это повлияло на прочие события.
* * *
Второе яркое воспоминание, связанное с Ральфом, сохранилось у меня со времени его увечья.
Крестьяне восточных секторов толпами уходили на восток, унося младенцев, скарб, угоняя уцелевших коз и пони. Я помню, как незнакомая девушка беззвучно плакала крупными горошинами слез и все пыталась упасть ничком на обочину, ее по-крестьянски уложенные косы бились о землю, жирная грязь облепила чистый лен волос. Над нестройною толпой разгромленных витали диковатые и угрюмые слова древнего гимна: «Не бойся печали под солнцем, не бойся ужаса, идущего среди звезд». Голоса тянули песню хрипло и низко, звук бил меня в самую душу, нагнетая исступленную ярость и мутную тоску. Мы и вправду тогда не боялись ничего – наступила та стадия гнева и отчаяния, когда плотская робость смертного существа отмирает сама собой. Наверное, прорвись каленусийские каратели к обозу, их бы встретили наши безоружные и раненые – встретили бы чем придется – ногтями, зубами, саперными лопатками.
По счастью, Дезет с боеспособными людьми Ральфа Валентиана поддерживал какой-никакой порядок и прикрывал отступление. Солдат Конфедерации встретил залп излучателей и точная, слаженная, мощная боевая пси-наводка. Каратели хватались за пылающие от боли лица, падали в густую дорожную глину.
А безнадежный Валентиан тогда плашмя валялся на единственной уцелевшей повозке, и какая-то незнакомая мне женщина держала тонкие пальцы у его висков. В углах искусанных губ Ральфа запеклась кровь. Видимо, псионичка сняла собственный барьер, принимая и рассеивая чужую боль. Эта женщина теперь всем известна как жена консула, но тогда она оставалась для меня полузнакомой беженкой – Джулией Симониан.
Я осторожно приблизился и склонился над Ральфом. «Бейтс, заберите ее, пусть она уйдет прочь, – сдавленно прохрипел он и добавил, переведя дыхание: – Пусть никто не мешает мне умирать по-моему».
Я уклонился от ответа и убрался в сторону, чтобы не оскорблять его незаурядное мужество пустыми словами утешения. Тяжело видеть отважного и заносчивого человека, когда он разуверился в собственном превосходстве.
Беспомощный Валентиан выжил, несмотря ни на что. Позже мы встречались еще много раз – когда он стал соправителем Алекса и живым символом стойкости поднявших восстание псиоников. Он стал калекой, но сумел не сделаться обузой. Ральф принимал посетителей, работал, ел и пил в одном и том же плетеном кресле. Рядом обычно стояла роскошная трость для ходьбы – символ недоступного выздоровления. Не знаю, для чего стояла. Во всяком случае, он никогда не использовал ее по назначению.
В эти годы я сам работал как заведенный – сначала охранником и референтом Стрижа, потом как советник Тайного Комитета, а попросту, шеф сыска новорожденного государства – нашей Консулярии. Сейчас, спустя годы, когда я отучился легко и свободно говорить правду, моя поношенная совесть стала уступчивой… Пусть так, жизнь треплет нас разным манером и никогда не делает наши сердца добрее, но я хочу поклясться всеми остатками того святого, что еще храню в душе своей, – Стриж и Валентиан довольно долго, и на деле, и на словах оставались верными друзьями. Не знаю почему, быть может, просто не могли друг без друга контролировать положение на востоке.
Первый звонок тревоги звякнул за три года до кульминации дела о Цертусе и Воробьином Короле. Помню, как в тот день хмурились влажные вечерние сумерки, в компании священника и врача-псионика я стоял внутри каменного круга дольменов, возле выгоревшего до угольной черноты кострового круга и рассматривал свежий безымянный труп. Стояло безветрие. Последний свет вечера струился на равнину, окрашивая наши лица и чахлую зелень багульника в багровые тона. Луддитский пастор время от времени искоса посматривал на труп и качал круглой, пристроенной на широких плечах головой. Негодовал пастырь душ не столько из-за убийства, сколько из-за оскорбления молитвенного места. Врач-псионик терпеливо ждал рядом, стараясь даже одеждой не соприкасаться со священником.
Я сам перевернул убитого, склонился над ним. Бледное лицо, несмотря на застывшую страдальческую гримасу, осталось неповрежденным, на шее темнели пятна ожогов, похоже, кто-то методично гасил сигареты о кожу несчастного.