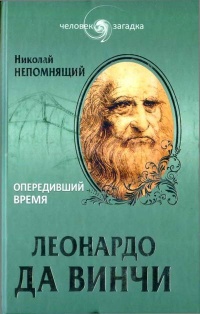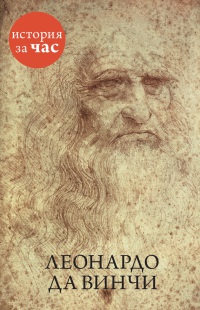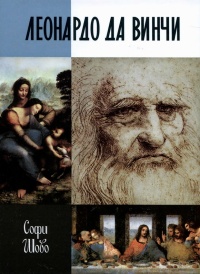Книга Образы Италии - Павел Павлович Муратов
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Даже в бреду Carceri Пиранези оставался великолепным архитектором. Тюрьмы его видений открывают сквозь затейливую путаницу лестниц, переходов и неведомых машин превосходно распределенные пространства и безграничные перспективы. Самое страшное в этих рисунках, кажется, колоссальная тяжесть и мощь каменных стен, сводов, арок и столбов. Как должен был чувствовать Пиранези каменные массы базилики Константина и терм Каракаллы! Ему почти никогда не приходилось строить что-либо. Существуют только в набросках его проекты каких-то фантастических и огромных зданий классической архитектуры. Ни у египетских фараонов, ни у римских императоров не хватило бы могущества, чтобы построить эти здания. По их величественным лестницам могли бы взойти целые народы, и целые города могли бы поместиться под их стремительно взлетающими арками.
Не Carceri и не эти фантазии составили славу Пиранези. Известность пришла к нему после того, как он стал издавать свои виды римских развалин. Такие виды и изображения художественных античных предметов – ваз, канделябров, треножников – занимают главную часть в его oeuvre gravé[127], состоящем из полутора тысяч листов. Количество это свидетельствует о беспримерной энергии Пиранези. Не только он никогда не знал усталости, но каждый из его листов несет на себе печать страстного увлечения. Руины Рима никогда не переставали вызывать в нем подъем духа и воображения. Он любил бродить среди них при луне, стремясь найти их истинное выражение в решительных контрастах света и тени. Зная только два цвета – черный и белый, Пиранези умел быть замечательным колористом. Хорошие оттиски его офортов отличаются ни с чем не сравнимой глубиной и бархатистостью черного тона. Его гравюры способны лучше украсить стену, чем любая картина.
Работая среди развалин Рима, Пиранези, конечно, мало думал о тех любителях, которые стали потом украшать его римскими видами свои комнаты, уставленные мебелью Чиппенделя и Роберта Адама. Он не обращал никакого внимания даже на то, что его необыкновенная производительность понижала цены его листов. Он жил в каком-то странном мире опрокинутых и заросших кустарником стен, разбитых плит, громоздящихся друг на друга барельефов, изъеденных временем алтарей. Длиннобородые и дикие козлы пасутся среди них, отыскивая траву, или там бродят тревожно жестикулирующие романтические фигуры людей, представляющих нечто среднее между разбойниками, нищими и энтузиастами древности.
Сам Пиранези был похож на одного из них, когда пробирался сквозь заросли, окружавшие тогда виллу Адриана. Смерть застала его в то время, как он работал над изображениями ее развалин. Он еще успел попутно высказать гениальные догадки об ее плане и расположении, которые подтвердились впоследствии исследованиями археологов. Знание его могло быть точным. Но, зная, как никто, римские руины, он менее всего стремился к буквальной правде изображений. Он передавал впечатления грандиозного с той силой, с какой чувствовал их сам, то есть в несколько раз сильнее, чем их чувствует обыкновенный человек. Триумфальные арки, храмы и римские мосты были поняты им не как создания людей, но как дела героев. Простые дорожные плиты на его Via Appia[128] исполнены необыкновенным величием. Это величие было в его собственной душе. Его дух вселялся в камни древних зданий, и точно веяния его колебали ползучие травы, свешивающиеся с их карнизов и фронтонов.
Для Пиранези, отлично знавшего место, общий вид и детали каждой римской руины, было мало только такого спокойного и подробного изучения. Его воображение любило соединять все формы и живописные черты развалин в одном мгновенном видении. Фронтисписами к собраниям его римских видов служат изображения уходящих в бесконечность античных дорог, по обеим сторонам которых возвышаются колоссальные здания. Они напоминают гробницы вдоль Аппиевой дороги, но только увеличенные в десятки и сотни раз. Они громоздятся друг на друга в несколько этажей. Легионы разбитых статуй, тучи обелисков, ваз, урн, саркофагов, алтарей, барельефов, герм, капителей и масок усеивают их. Увитые плющом деревья раскидывают среди них свои ветви. Маленькие человеческие фигурки на античной мостовой кажутся рядом с ними пигмеями. Перед этими горами мраморных изваяний и архитектурных форм чувствуешь себя раздавленным. Надо было быть Пиранези, чтобы не почувствовать этого!
Надо было родиться безумствующим романтиком, чтобы с такой решительностью и вечной тревогой души искать трагическое в развалинах Рима. Судьба заставила искусство сказать последнее слово в Риме гравюрами Пиранези. Содержанием этого последнего из процветавших в Риме великих искусств был пафос разрушения.
Римская Кампанья
1
Окрестности Рима – римская Кампанья – больше, чем что-либо другое, отличают Рим от всех городов. Образ Кампаньи соединен с образом Рима неразрывно. Она первая открывает глаза путешественнику после начальных дней разочарования. Окруженный Кампаньей, Рим мало принадлежит современной Италии, современной Европе. Истинный дух Рима не умрет до тех пор, пока вокруг него будет простираться эта легендарная страна. Никакие принадлежности европейской столицы не сделают его современным городом, никакие железные дороги не свяжут его с нынешней утилитарной культурой. Путешественник прежних времен тратил целый день, чтобы проехать Кампанью; теперь поезд пробегает то же пространство в два часа. Но в этом пока вся разница. И теперь, как и тогда, за эти два часа, как за тот день, приближающийся к Риму путешественник расстается с одним миром и находит другой. Вечность Рима не вымысел: его окружает страна, над которой время остановило полет и сложило крылья. Исторический день здесь никогда не наступал, здесь всегда брезжит рассвет нашего бытия.
Кампанья не поддается изменениям, не подчиняется завоеваниям цивилизации. От самых ворот города начинается иногда необработанное, незаселенное, дикое поле. Трудно объяснить это одной малярией; трудно поверить, что во времена императоров Кампанья была другой, покрытой виноградниками, полями, виллами. Поселение человека всегда было здесь только оазисом. Виллы римских патрициев строились под самым городом или на морском побережье, в Лаурентуме, в Анциуме; постоялые