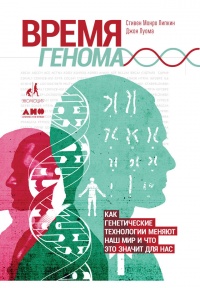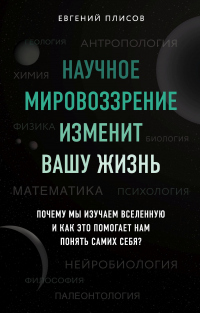Книга На лужайке Эйнштейна. Что такое НИЧТО, и где начинается ВСЕ - Аманда Гефтер
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Как ни посмотри, выходит плохо. Как я могу написать книгу по физике без него? Если бы не он, я бы никогда не занялась физикой вообще. Я бы никогда не сделала ни одного шага – не только потому, что он зацепил меня своим вопросом «ни о чем», но и потому, что без него, делившего на каждом новом шагу мои тревоги, все это не имело бы большого значения. Я думаю, так получилось с инвариантностью. Я думаю, так получилось в разговорах с другими. Пусть об их мыслях и чувствах мы даже догадаться не можем, не говоря о том, чтобы знать, пусть они сидят на противоположной стороне непреодолимой пропасти, пусть сам факт их принадлежности к «другим» заставляет нас чувствовать себя так чертовски одиноко, – это все же то единственное, что заставляет нас чувствовать свою реальность. Реальность жизни. Даже разгадка тайны Вселенной, кажется, не стоит ничего без моего отца, повторяла я про себя.
Я посмотрела на нее умоляюще:
– Скажи мне, что делать.
– Я не могу, – сказала она.
Я надула губы:
– С каких это пор?
– Он будет тобой гордиться несмотря ни на что, – сказала она. – И я тоже. Я уверена, ты примешь правильное решение.
Я поглядела в сторону гавани. Мой взгляд скользил по спокойной воде, пока он не встретил горы, которые на расстоянии казались маленькими. Я знала, что соавторство подобно смертному прегрешению против голографии, что, пересекая горизонт, мы невольно рождаем что-то безголосое и неправдоподобное. И все же – еще раз: я не была уверена, что нас с отцом следует рассматривать как двух различных наблюдателей, как Сэйфа и Скруда. Каждый из нас всегда знал, что думает другой. Мы понимали друг друга с полуслова, и даже случалось, что я звонила ему, чтобы поделиться какими-то новыми откровениями, и попадала на автоответчик, потому что в тот же самый момент он звонил мне, чтобы поделиться точно тем же откровением. Если бы я не была сама телепатическим партнером в таких ситуациях, я никогда бы не поверила этому. Такие сверхъестественные события происходили с достаточной частотой, чтобы наши близкие, например мама, были убеждены в том, что мы – две половинки одного мозга.
С другой стороны, у нас было много различий. Там, где он был спокоен и терпелив, я была слишком поспешной. Там, где он был благодушен, я была угрюмой и циничной. Он обладал интуицией, я – логикой. Он отказывался переходить улицу на красный свет светофора, даже если на дороге никого не было на много миль вокруг, а мне было комфортнее, когда я нарушала правила, чем когда следовала им. И когда ему приходила в голову блестящая идея, например про H-состояние, он предпочитал посидеть на ней некоторое время, как на яйце, которое надо было высидеть, а я предпочитала ухватиться за нее, привязать к себе, как динамитную шашку, и броситься с ней на танки.
Мне хотелось послушаться Мэтсон. Я хотела обрести свой голос, выйти за рамки разлинованной тетради и писать на ее полях. Мне нужно было найти способ писать в своей собственной системе отсчета, но здесь, в этой системе отсчета, я не знала, что это значило говорить о физике, не говоря о моем отце. Для меня, с самого начала, взрослеть и открывать для себя природу Вселенной означало одно и то же, хотя я полагаю, что это справедливо для всех. Мой мир всегда был странным гибридом жизни и физики, и если бы реальность была моим Снарком, думала я, то, возможно, моя книга будет также странным гибридом.
– Боже мой! – пробормотала я.
– Что такое? – спросила мама.
– Мне кажется, что я знаю, что делать.
Меня вдруг осенило. Обобщенный принцип дополнительности требовал большего, чем единоличное авторство. Он потребовал повествования от первого лица.
– Я собираюсь написать целую историю, – сказала я. – Об отце и его H-состоянии, о Принстоне и Уилере… обо всем этом.
Мы с отцом, возможно, и не живем в одной и той же Вселенной, подумала я, но он появился в моей так же убедительно, как я в его. Его имя не обязательно должно быть на обложке – он мог быть в книге. Он будет моим коллегой, или, может быть, я – его. Мы будем как Дон Кихот и… столь же безумный отец Дон Кихота. Я напишу книгу от первого лица, в соответствии с требованием Брокмана и Мэтсон и в согласии с законами физики, но – и это самое важное – мы будем в ней вместе, не соавторы, но соучастники. Наша книга начиналась как идея, как символ разгадки тайны Вселенной. Но теперь до меня дошло: взрослеть – это значит признать книгу тем, чем она должна в реальности быть, то есть историей. Нет, не так – моей историей. «Разбить стекло и выбраться наружу».
– Так это будет похоже на мемуары? – спросила мама.
Я улыбнулась:
– Вот именно.
Это была единственная логическая возможность: книга с автором внутри горизонта, настолько хитроумно устроенного, что казавшийся, с одной точки зрения, ее автором, с другой – персонаж. Построенная по принципу «сверху вниз», самосогласованная, рассказанная от первого лица, по-гёделевски сумасшедшая космология. Прикольные мемуары.
Моя мама посмотрела на меня с опаской:
– И я там тоже буду?
– Если повезет, – сказала я.
Она бросила на меня еще один суровый взгляд:
– Только не выставляй меня в дурном свете.
Когда мы вернулись в отель, я с волнением рассказала отцу о родившейся идее написать книгу по физике с элементами мемуаров. Я видела по его лицу, что он начинает признавать логическую необходимость происходящего.
– Ну, что же! – одобрительно воскликнул он и улыбнулся. – Это будет настоящая книга!
Он сказал это так, как будто все это время мы говорили именно о такой книге, но только не знали об этом. Или даже так, будто он-то знал, но просто ждал, пока свет дойдет и до меня. Меня охватила паранойя. Неужели он все это спланировал? Хотел преподать мне какой-то урок? Может быть, камни в почках были тому причиной, но казалось, что он испытывал определенное облегчение, словно роль персонажа была ему удобнее, чем роль автора. Я успокоилась, видя, что он счастлив, что мы по-прежнему вместе и что я нашла способ стать писателем. Передо мной открывался путь, показавшийся ему однажды закрытым, и тогда его это очень обеспокоило.
На высоте в тридцать тысяч футов над землей, возвращаясь на восточное побережье, я начала ощущать величие всего того, что встретилось нам во время путешествия. Несомненно, космология вплотную приблизилась к радикальной смене парадигмы. Хотя эта мысль еще не в полной мере проникла в сообщество физиков, не говоря уже о широкой общественности. Перемены стояли уже на пороге, и их приход уже ничто не могло остановить. Как сказал Буссо, это было неизбежно.
Революции в космологии случались и ранее, но крайне редко, с большими временными интервалами между ними. Было сочинение Николая Коперника «О вращении небесных сфер», опубликованное в 1543 году и зажегшее так называемую Великую научную революцию. В ходе нее было низвергнуто аристотелевское мировоззрение, царившее более тысячелетия. Аристотель утверждал, что мир – это конечное множество вложенных одна в другую хрустальных сфер, вовлекавших Луну, Солнце, планеты и звезды в совершенное круговое движение, неподвижным центром которому служила Земля. Тела вблизи Земли, как говорил Аристотель, перемещаются вверх или вниз в соответствии с соотношением в их составе четырех элементов – воздуха, огня, земли и воды; достигнув своего естественного места, элементарные тела переходят в состояние абсолютного покоя. Но Коперник решил, что систему можно упростить: Солнце находится в центре мира, а Земля и все планеты движутся вокруг него. Его соображения подтолкнули то, что мы сейчас называем наукой, выйти за пределы очевидности в направлении чего-то похожего на окончательную реальность. Они также размыли границу между небесными телами и земными, элементарными, что противоречило аристотелевскому разделению мира на подлунный и надлунный, а также давало место определенному представлению об относительности движения. Объяснив кажущееся движение звезд движением Земли, Коперник сделал ненужной их твердую сферу и позволил им разойтись на произвольные расстояния по всему пространству, открывая путь к возможности бесконечной Вселенной. Тихо Браге, наблюдая траектории комет вскоре после этого, вообще лишил сферы права на существование, позволив планетам и звездам бродить самостоятельно в обширных пределах успокаивающе пустого пространства.