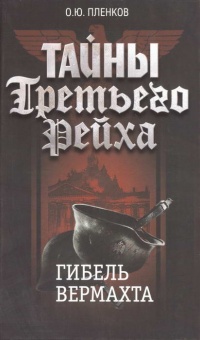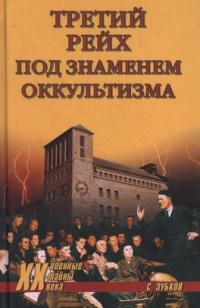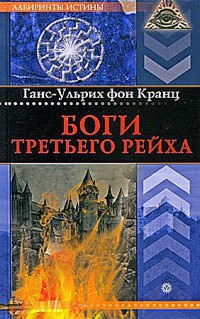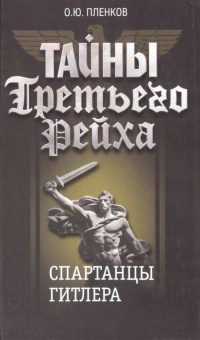Книга Дети Третьего рейха - Татьяна Фрейденссон
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Фон Ширах отложил книгу и посмотрел на меня долгим взглядом. Снял очки. Нервно откинул волосы, липшие ко лбу.
– Лишь в двадцать пять лет я впервые увидел, как отец держит чашку кофе, как он пьет. До этого мы виделись только через решетку. Я должен сказать, что верю в силу тюремного заключения. Оно действительно может заставить думать по-другому. Кроме этого, я специалист по проигрышам, по поражениям. И думаю, что в обоих случаях – после поражения или в заключении – можно многое осознать, многое понять для себя.
Но тогда я знал, что этому человеку нужна моя помощь, ему нужна эмоциональная связь со мной, так же, как она была нужна и мне. Я хотел бы ответить на вопрос о том, каково же это – знать, что твой отец был преступником и за это был осужден. Это невероятно трудная в эмоциональном плане ситуация. Потому что ты вынужденным образом любишь этого человека, которому нужна твоя помощь, который день и ночь проводит в крошечной тюремной камере. Этот человек – преступник и одновременно твой отец… То есть у вас с ним существует прочная эмоциональная связь, которую вы не можете разорвать окончательно. Но при этом он остается преступником, и его преступления… Не знаю даже… Очень трудно сформулировать… Он и отец, он же и преступник, и наряду с этим… Нет, не так…
Губы Рихарда дрогнули. Раз. Другой.
И расплылись в кривой улыбке.
Фон Ширах как-то нервно дернул рукой и закинул голову.
Он плакал?
Неожиданно. Удивительно.
Рихард, сощурившись от солнца, опустил голову.
Мне кажется, ему стало неловко.
Фон Ширах сказал, что ему нужна пауза – отдышаться. Камеру выключили. И через несколько минут он уже весело щебетал со мной про то, как удачно он выбрал Хофгартен для съемок – на такой жаре в Мюнхене мало где можно дышать полной грудью. А я, глядя на него, пыталась понять, что стояло за этой эмоциональной вспышкой.
Выходит, он правда любит своего отца?
С другой стороны – а почему нет?
Но откуда тогда это тщеславие? Защитная реакция? И почему он так любит говорить о своих страданиях?
– Давай пройдем поглубже, в сторону Английского сада, там будет больше тени, – сказал Рихард. И лукаво подмигнул мне: – Я тебе кое-что покажу, там, в саду. Тебе понравится.
То, что мне должно было понравиться, находилось в северной части Хофгартена, горевшего на солнце слюдой мелких камушков, сединой волос Рихарда, пышной зеленью листвы. Там, где мы остановились – под густой плотной тенью, которую солнце не смогло унизить своей абсолютной властью, – фон Ширах загадочно улыбнулся, взял меня за руку и под изумленными взглядами Сергея и оператора потащил за собой. На лице Рихарда капельками пота проступило возбуждение, в глазах плескался восторг – такое можно видеть у малыша, который тянет за собой мать, чтобы показать, как красиво он изобразил на стене фломастером лошадку или котика.
– Вот он! Вот он! Там, за деревьями. Вот он! Русский! Сейчас. – Рихард, наконец, отпустил мою взмокшую ладонь и полез в свой потрепанный кожаный портфельчик, куда он успел убрать книгу и на дне которого покоился футляр с толстыми очками. – Прямо минуточку еще одну!
Он выудил очки из портфеля и надел их на нос – передо мной опять стоял крупный большеглазый филин. Фон Ширах впервые показался мне по-настоящему милым.
– А теперь – закрой глаза. Он снова взял меня за руку.
– Иди за мной вперед. И еще шажок. И еще один. Вот так. Открывай!
На уровне моих глаз оказались чьи-то бронзовые штаны. Я закинула голову – это был памятник человеку, стоящему на небольшом постаменте и смотрящему в сторону.
– Это русский, русский! Смотри! Тьючеф.
– Что?
– Тьюджев.
Рихард, прилагая максимальные усилия, пытался прочесть надпись на постаменте. Я посмотрела: «Федор Тютчев».
– Тючев, – повторил за мной фон Ширах и, показав пальцем на губы, артикулированно повторил еще раз: – Тючев.
Рихард несколько секунд упорно смотрел прямо на меня, пока я не догадалась, чего он ждет. Ну конечно!
– Рихард, надо же! – завопила я от восторга, словно и правда встретила покойного поэта прямо тут, в Хофгартене. – Федор Тютчев! Вот так чудо!
Рихард раскинул руки в сторону, намекая на дружеские объятия. Обнимая рыхлого и влажного Рихарда, от которого исходил пар, я думала о том, что он часто вступает со мной в тактильный контакт. Интересно, он со всеми женщинами так? Нет, фон Ширах не переходил никаких границ – возможно, дело было в том, что в детстве он недополучил нежных прикосновений родителей. Сорок второй год рождения. Ни тебе богатства в Третьем рейхе, ничего, что бы он мог знать о прошлой роскошной жизни семьи, за которую ему пришлось расплатиться своим детством в интернате.
Рихард разомкнул объятия. Я, наконец, свободно вздохнула. И спросила у Рихарда про его отношение к русским.
– Прекрасное! – сказал он. – Русская литература – лучшая в мире. Первое, что я прочитал из русской литературы, еще в школе, и больше из подросткового любопытства, была «Лолита» Набокова, которую взял в библиотеке. Этот роман меня очаровал настолько, что я не мог читать многое из немецкой литературы, потому она была не на таком высоком уровне. И так я стал настоящим фанатом Набокова. Кроме этого, и в тюрьме, и после заключения мой отец читал много русской литературы. Это к вопросу о том, что тюрьма является местом познания и осознания. Он и меня уговаривал читать. И «Тихий дон» Шолохова, и всего Тургенева, и Толстого.
Филин Рихард снял очки и положил их в футляр.
Мне стало интересно, как он относился к другим русским, ведь именно наша Красная армия чуть не прикончила его отца, ведь именно советские охранники были самыми жесткими и несговорчивыми в тюрьме Шпандау…
Ширах посмотрел на Тютчева, потом на меня и вздохнул:
– Другие русские… Наверное, у отца моего и правда было сложное отношение к русским. Например, именно обвинитель с русской стороны генерал Руденко пытался возложить на немцев ответственность за Катынь, хотя все прекрасно знали, что это было дело рук русских, а не немцев, к тому же имелись документальные подтверждения, результаты расследований. Мои контакты с русскими ограничиваются лишь тюрьмой, тюремными служащими. Некоторых из них отец очень уважал. Когда я приходил к нему в тюрьму, он заклинал меня: «Только не говори ничего плохого о Мартынове, он мне очень помог».
«6 апреля 1957 года. Пока Функ болен, Шираху не с кем поговорить. Утром он вдвоем с Фоминым посадил на круглой клумбе красные и белые люпины так, чтобы цветы выросли в форме советской звезды. Я спросил сидевшего в противоположном углу сада Гесса: ”Что вы думаете об этом? Ваш лидер молодежи рейха украшает цветочную клумбу красной звездой“. Гесс лишь улыбнулся»65.