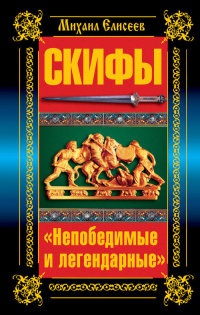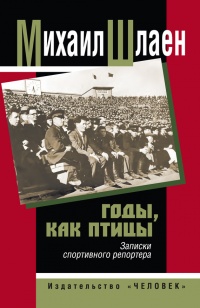Книга Ненависть - Иван Шухов
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
«Нет, товарищ,— говорил он себе,— ежели будет грех, отобьет у нас Дыбин переходящее знамя, я тогда из зерносовхоза убегу! Вот только с Любкой расстаться невмоготу!..»
Но, как назло, был в эти горячие дни Иван Чемасов лишен возможности поделиться горьким своим раздумьем с Любкой. А ведь только она умела и слушать и понимать его с полуслова! Ведь второй такой девушки не отыщешь в мире! Да дернуло же, скажите на милость, какого-то дурака приписать ее к дыбинской бригаде! А теперь вот попробуй, погорюй, посоветуйся с нею, как тяжко ему, бригадиру Ивану Чемасову, уронить из рук боевое почетное знамя.
«Нет, об этом ей лучше и не заикайся — на смех подымет. Она за свою бригаду дерется, явно побить меня норовит!» — ревниво думал Чемасов.
И он избегал встреч с Любкой. Но она чутьем догадывалась о причинах его непривычного поведения и упорно стремилась к разговору с ним. Укрыться Чемасову от Любки не удалось.
Вечером, возвращаясь со своего массива на полевой стан, Любка, присев близ кургана, терпеливо поджидала, когда усталый, хмурый бригадир поравняется с нею. Пропустив его вперед шагов на пять, она легко и бесшумно шагнула вслед за ним, и не успел он опомниться, как она обвила руками его шею.
Чемасов опешил, растерянно улыбнулся.
Открыв в улыбке частые белые зубы, Любка на мгновение покорно и преданно заглянула ему в глаза, а потом, отпрянув, осуждающе покачала головой.
— Ну как, зашиваешься, мальчик? И тебе не совестно? Эвон какой ты у меня хороший, и музыкант: гармонь растянешь — степь плывет! А вот знамя удержать не можешь. Жар-птицу из рук выпускаешь, Ванюша!..
— Не выпущу…— пытаясь ухватить Любку за руку, глухо ответил Чемасов.
Она, ловко вывернувшись из его рук, притворно строго сказала:
— Лишиться знамени, да еще такому бригадиру,— ведь это же стыд и позор. Ну, уж я бы в жизни никому не отдала. Сама хочу победителем быть. Пусть полюбуются тогда на меня, какая я красивая да боевая. Пусть влюбляются тогда все в меня — знаменитую бригадиршу!
— Смейся! Смейся! — сказал угрюмо Чемасов.
— А что ж тут смешного? Нет, я нисколько не смеюсь. Убей меня матерь божья, сурьезно. Лучше всех хочу быть, миленький. И любить хочу самого лучшего. Вот я какая!
Потом порывисто прижалась к Ивану молодым, упругим телом.
— Ой, какой ты у меня опасный! Очень уж ты рисковый. Ведь с тобой и впрямь согрешить недолго. Ей-богу, не устою. Колдун! Музыкант ты мой!
— Люблю. Ни на кого не променяю. Умру я без тебя. Хорошая моя. Беда моя. Моя птица…— бормотал, как в бреду, Иван, подняв ее на руки… Он стоял ни живой ни мертвый. Боясь вспугнуть ее, он, затаив дыхание, любовался смуглым ее лицом, тревожным блеском лукаво полуприкрытых глаз. Горячая волна нежности подступала к бешено стучавшему сердцу.
Чувствуя, что Иван теряет рассудок, что земля горит и плывет у него под ногами, Любка, глядя ему в лицо и жмурясь, точно от солнца, говорила какие-то ласковые бессвязные слова притворно-испуганным, вкрадчивым полушепотом.
…Дорого стоили Ивану Чемасову такие мимолетные, сводившие его с ума встречи с Любкой. Позднее, остыв, опомнившись, он никак не мог понять толком — шутила ли с ним насчет первенства его бригады Любка или говорила всерьез. «Разве поймешь ее такую?» — с нежностью и отчаянием не раз думал без памяти влюбленный в нее бригадир. И он, расставаясь с нею, все же
твердо решал добиваться высокой трудовой чести своей бригаде!
К концу первой декады бригада Ивана Чемасова стала изо дня в день перевыполнять нормы.
На диво всем, помрачневший и тихий, пахал теперь целину без простоев даже Ефим Крюков. Поразил он весь участок и тем, что нежданно-негаданно вдруг утратил пагубную для дела страсть к балалайке. То, бывало, не успеет с трактора соскочить, как, глядишь, в руках у него балалайка, и не расстается он с ней до зари. Даже по утрам, перед сменой, время урывал: под шумок какой-нибудь немилосердно перевранный марш отхватывал! А тут не успеет смениться и сдать машину — шмыг в палатку, и никакой музыкой его оттуда не вытянешь. На перекрестные расспросы ребят, что с ним случилось, отвечал:
— Животом маюсь. Не до бандуры тут, понимаешь…
— Да, как же ты пашешь-то хворый?
— Как пашу? А так и пашу, что высокое, понимаешь, сознание имею.
— Эк ты! Давно такое заимел, товарищ?
— Вторые сутки…— серьезно отвечал Ефим.— Можете проверить, второй день на все сто норму выдаю. Чисто-любо посмотреть, как я работаю! Аж двадцать четыре кила горючего сэкономил. Самого себя не признаю, чисто. И как это только я переродился?! Удивительный номер вышел со мной. Каюсь, с ленцой был раньше, симулянтничал и волынил. А теперь — эвон какой я ударный!..— искренне восторгался собою Ефим Крюков.
Трактористы чемасовской бригады поощрительно улыбались Ефимке, бурно хвалили его и только из опасения, как бы не сорвать крюковского запала, мужественно умалчивали о той тайне, которую поклялись они Увару Канахину до поры до времени не выдавать Ефимке.
Тайна же эта заключалась вот в чем.
Систематическая недовыработка Ефимкой сменных заданий грозила сорвать производственный план всей бригады. Ни товарищеский суд, ни угрозы, ни порицания, ни злые карикатуры в листовках — ничто не помогало, не подтягивало явно лодырничавшего тракториста. Некоторые даже требовали с позором выгнать его из бригады. Но Чемасов решительно воспротивился этому.
— Выгнать мы его всегда с треском успеем — дело немудреное, а вот заставить работать честно — это по-
труднее. Надо попробовать,— резонно сказал бригадир на летучке.
— Вот именно! — поддержала его Морька Звонцова.
— Массовую обработку над ним провести, председателя рабочкома Увара вызвать! — предложил кто-то из ребят.
— Вот это резон.
— Увар его вышколит — я те дам! — дружно поддержали это предложение все трактористы.
Явиться в бригаду Увар не замедлил и, выслушав жалобу бригадира, убежденно заявил:
— Проработаю. Я с него завтра же норму выжму. Будьте покойны!
А на рассвете, когда тракторист, беспечно насвистывая замысловатую польку, нехотя копался около ставшего среди борозды трактора, Увар, проникнув в палатку Крюкова, сорвал с крючка его балалайку, а затем, явившись с ней на пахотный массив к Ефиму и свирепо ударив пятерней по струнам, спросил:
— Слышишь, малохольный, подобную музыку?
— Слышу…— почуяв неладное, промычал Ефимка.
— Слушай… Вникай, лодырь…— молвил вполголоса Увар Канахин.— Слушай и плачь, рыдай под таковые последние звуки. И как пред рабочего комитета зерно-гиганта, я тебе массово разъясняю: ежли, случись грех, подгадишь ты боевой нашей бригаде товарища Ивана Чемасова и замочишь его авторитет — плакала твоя трехструнная бандура!