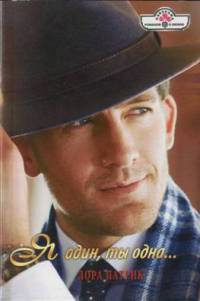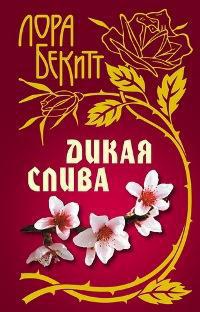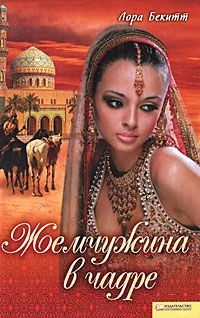Книга Роза на алтаре [= Цветок страсти ] - Лора Бекитт
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Бернар посмотрел на нее. Как ни странно, время не так уж сильно изменило его: волосы все еще жгуче-черные, тело по-прежнему гибкое и стройное, кожа отливает тем же теплым оливковым оттенком, но… Что-то погасло в глазах, внутренние силы истощились, на смену надежде пришла тоска.
– Я говорил о себе. О своем последнем походе, – ответил он и тут же добавил: – Но сейчас не стоит об этом.
– Почему? – прошептала Элиана, на мгновение забыв о своей обиде. – Отчего ты не хочешь довериться мне? Ведь я всегда делилась с тобой сокровенным!
– Ты женщина. А я мужчина. Мне не дано права быть слабым.
– Ты никогда и не был таким. Ты всегда оставался сильным. Ты защищал и оберегал меня, как мог, – она говорила тихо, проникновенно, глядя ему в глаза. – Позволь мне узнать, что у тебя на душе!
– Хорошо, – медленно произнес Бернар. – Быть может, и стоит… один-единственный раз. Помнишь наш предыдущий разговор о том, что я был верен тебе так долго, а потом… Так вот, потом настал миг, когда я подумал: что толку в монашеской святости, в целомудрии, когда вокруг бушует кровавое море! Мне ли притворяться праведником, мне, человеку, который сотни раз вел людей на смерть и убивал сам! Да, случалось, я испытывал жалость, но при этом не мучился совестью, потому что выполнял чей-то приказ, подчинял сомнения чувству долга. Солдат кивает на полковника, полковник – на генерала, но на самом деле каждый отвечает за себя и за все земные деяния платит свою собственную цену. С годами мы начинаем понимать, какими надо быть, и тем не менее зачастую остаемся прежними…
Помнишь, я убил того человека, Бонклера? Мне казалось, я вершу праведный суд, никогда еще я не был так уверен в себе, да и сейчас не раскаиваюсь. И все же когда родился этот мальчик, Морис… О нет, ты же знаешь, я люблю детей, и отношусь к этому ребенку так же, как и к другим своим сыновьям; просто тогда я понял: судьба может мне отомстить, потребовать за все, что я совершил в своей жизни, самой страшной платы. Мне не жаль себя, но мои дети! Ведь жертвами, как правило, становятся невинные! Я не знаю, кто победит в грядущей войне, Франция или Россия, но погибнет очень много людей! И я молю Господа об одном: пусть я, а не Ролан! Я уже увидел все, что хотел увидеть, понял все, что желал понять! Мне же известно: если убьют Ролана, тебе не буду нужен ни я, ни моя любовь! Поверь, я оставался жив не потому, что прятался за спины других, так было угодно Богу; и теперь я думаю: возможно, он сохранил мне жизнь для того, чтобы я увидел смерть собственного сына, я – тот, кто столько раз убивал чужих сыновей!
Элиане стало страшно. Внезапно она обхватила голову мужа руками и прижала к своей груди.
– Не надо так мучиться, дорогой! Я верю, вы вернетесь оба – и ты, и Ролан! Иного Господь не допустит!
Она продолжала говорить, пытаясь отодвинуть от себя разверзнувшуюся пропасть, а Бернар слегка поглаживал ее по руке и молчал, и ей было жутко представить, о чем он думает.
– Каково же тебе приходилось все это время! – наконец вымолвил он. – Эти вечные ожидания, короткие встречи! Из-за меня ты, еще такая молодая и красивая, распрощалась со светской жизнью! Все могло бы быть иначе, если б рядом с тобой оказался кто-то другой, на твои плечи не легло бы столько забот, ты никогда бы не испытала подобных волнений! Этого я тоже не могу себе простить.
– Неужели ты думаешь, будто я о чем-то жалею? О том, что мы так мало бывали вместе, – да, но об остальном…
Бернар не сводил с нее глаз.
– Ты уезжаешь завтра утром? Я понимаю – детей нельзя надолго оставлять одних.
– Да.
– Где тебе будет лучше: здесь или в комнате Адели? Там нет второй кровати, а вам обеим нужно выспаться. Если ты останешься тут, я спущусь вниз.
Элиана молчала. Да, жизнь и смерть неразлучны, но когда человек жив, он должен жить. Она вспомнила девяносто третий год: тогда их брачное ложе напоминало погребальный костер, и все же любовь оказалась сильнее страха смерти.
– А если я скажу, что хочу спать в твоей постели, с тобой? – спросила она.
Он продолжал смотреть с неверием и одновременно – с надеждой.
– Ты… ты меня простила?
– Мы, как всегда, не можем позволить себе слишком долго размышлять о чем-либо, Бернар. – Он заметил на губах Элианы усмешку, но в ее глазах было что-то совсем другое. – А потому приходится подчиняться чувствам.
– Ты хочешь сказать, что твоя любовь ко мне сильнее обиды?
– Наверное, так. Эмоции – нечто преходящее, а чувства, они неизменны. В другой ситуации я бы вряд ли сумела простить, но сейчас думаю: когда мы еще увидимся? Может, после я буду жалеть о том, что не осталась с тобой?
Бернар с молчаливой благодарностью склонился перед Элианой и принялся снимать с ее ног шелковые чулки – медленно, осторожно, целуя узкое колено, проводя кончиками пальцев по молочно-белой коже на стройных лодыжках, гладя изящные ступни.
Нежная ямка у основания шеи, гибкая талия, округлая грудь – все ждало его прикосновений; тело Элианы изнывало в страстном, сладостном нетерпении.
И вот они сплели свои объятия, прильнули друг к другу в неудержимом, искреннем, всесильном любовном порыве. Они не ведали ни запретов, ни стыда, и все, что происходило между ними, казалось таким же естественным, как акт рождения или смерти, неотделимым от представления об истинно человеческом. Элиана знала: далеко не каждый мужчина способен подарить женщине столько телесных удовольствий и в то же время дать почувствовать себя богиней, позволить ей сполна насладиться земным и вместе с тем ощутить в себе то, что в силах внушить лишь небесам.
…Ранним утром Бернар Флери стоял возле окна затененной комнаты и смотрел на залитый солнцем двор, ожидая, когда те, кого он провожал, сядут в дилижанс. Он не вышел на улицу, ему хотелось посмотреть на них издалека. Сам он никогда не оглядывался, но они оглянулись и дружно помахали ему, две тонкие фигурки на фоне яркого летнего утра.
Он поднял руку и улыбнулся, радуясь, что с такого расстояния они не смогут разглядеть его слез. Он прощался с ними. Может быть, навсегда.
Зима 1812 года почему-то напомнила Элиане времена Революции: то же мрачное ожидание – хотя и с надеждой, но без веры.
Старший сын Дезире, Себастьян, также участвовал в русском походе, и обе женщины всякий раз с трепетом прочитывали очередной военный бюллетень.
Они уже знали, что французская армия покинула опустошенную Москву и отступала, преследуемая русскими, с каждой новой битвой теряя остатки сил, превращаясь в толпу, беспорядочно бегущую по холодной пустыне навстречу неминуемой смерти.
«Триста тысяч убитых», – гласило последнее сообщение.
Прочитав его, Дезире принялась ломать руки, в слезах повторяя:
– Господи! Неужели мы потеряли их? Неужели мы их потеряли!