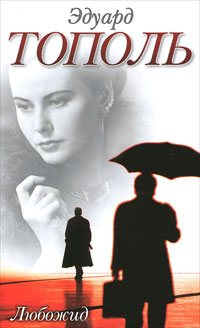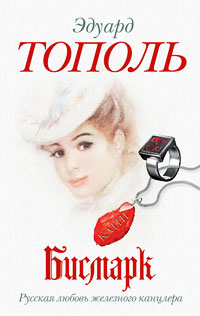Книга Русская дива - Эдуард Тополь
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Он пригнулся к кювете, не веря своим глазам. Но это была она, она — Оля! Оля в обнимку с Рубинчиком! Везде! На всех 72 кадрах двух кассет, которые Фаскин и Зарцев изъяли в котельной Института гляциологии. Смеющаяся, задумчивая, хохочущая. На Красной площади, на Ленинских горах, на Крымском мосту и даже — явно с вызовом ему, Барскому! — целующая Рубинчика на площади Дзержинского на фоне здания КГБ СССР!
Ужас и бешенство ослепили Барского и зажали ему сердце и душу. Но он успел сообразить, что эти фото не должен видеть никто, даже фотолаборантка. Так вот почему этот мерзавец «заявил и подчеркнул», что пленки должны быть проявлены именно им, Барским! Барский стремительно шагнул к выключателю, включил свет в лаборатории, и все фотоотпечатки тут же потемнели и почернели в кювете, а лаборантка повернулась к нему от фотоувеличителя с изумленным вопросом в глазах. Но он не стал с ней объясняться, он забрал у нее обе пленки и, сдерживая шаги, чтобы не побежать, вышел из лаборатории, спустился в служебную машину. Через двадцать минут, превозмогая сжимающую сердце боль в груди, он примчался на Таганскую площадь к гастроному «Таганский», взбежал на третий этаж к Олиной квартире. Никто не ответил на его стук, но это его не остановило — ударом ботинка он вышиб замок и распахнул дверь. Однако Оли дома не оказалось. Впрочем, с первого же взгляда ему стало ясно, что этот мерзавец Рубинчик бывал здесь регулярно: на тумбочке у Олиной кровати стояло его фото, на подоконнике лежали сигареты, а на Олином письменном столе стояла пишущая машинка «Эрика», и рядом лежала стопка машинописных страниц с этой семнадцатой главой.
Барский отшвырнул страницу и заметался по квартире, распахивая ящики бельевого шкафа, аптечку в ванной, коробку с косметикой. По опыту бесчисленных обысков в квартирах сионистов и диссидентов он хорошо знал, где женщины прячут противозачаточные средства. Но в Олиной квартире их не было, и, не зная, хорошо это или плохо, он подошел к окну. Где может быть Ольга в двенадцать ночи, если этот мерзавец Рубинчик сидит в одиночке Бутырской тюрьмы? Барский включил «Спидолу», стоявшую на комоде под маленькой иконой Христа — его мать перед смертью стала верующей, прихожанкой церкви в Котельническом проезде. Радиоприемник был, конечно, настроен на волну Би-би-си, и тут же сквозь хрипы глушилок сообщил о том, что в Кэмп-Дэвиде начались переговоры между Бегиным, Садатом и Картером. Что Иран ввел военное положение в двенадцати городах. Что в Лондоне продолжается расследование атаки террористической группы «Черный июнь» на автобус израильской авиакомпании «Эл-Ал». Что СССР разместил в Восточной Европе еще 370 новых межконтинентальных ракет и 7 тысяч танков. Что большинство западных ученых пробойкотировали открывшуюся в Москве международную конференцию генетиков из-за политики советского правительства в области соблюдения прав человека, а те, кто приехал на эту конференцию, используют ее как трибуну для осуждения советских репрессий. И что американский сенатор Эдвард Кеннеди собирается в Москву на встречу с Брежневым для обсуждения судеб советских диссидентов и евреев-отказников…
Барский в досаде выключил приемник. Кеннеди ему в Москве не хватает! Эти жиды вконец обнаглеют, если американские сенаторы начнут ездить к Брежневу их заступниками и адвокатами! Где же Ольга, черт ее подери! Господи, за что ему такая жуткая кара: мать, Анна, а теперь еще и родная дочь — с жидами! Чем эти евреи так притягивают самых лучших русских женщин?
Он закурил и вернулся к письменному столу. Антисоветская рукопись Рубинчика в квартире его родной дочери — ничего подлее и страшнее невозможно было вообразить даже в ночном кошмаре! Глубоко затягиваясь сигаретой, Барский стал читать через клубы дыма…
…Впрочем, скандалы рядовых эмигрантов и их мелкие взятки никогда не поднимались выше общего таможенного зала. Наверх, на третий этаж, в кабинет начальника таможни поднимались только те, кто хотел заранее договориться о беспрепятственном, а точнее, без всякого досмотра прохождении своего багажа. Обычно такие посетители негромко стучали в дверь кабинета толстым золотым перстнем на правой руке, потом приоткрывали дверь, просовывали голову и спрашивали с кавказским или ташкентским акцентом:
— Р-разрэшите?!
А зайдя, плотно, со значением, закрывали за собой дверь, садились на стул напротив начальника таможни и говорили:
— Дарагой! У тебя дети есть?
— А в чем дело? — настороженно спрашивал начальник таможни.
— Нет, ты мне как другу скажи: дети есть? Жена?
— Ну, есть, конечно…
— Очень харашо! У меня для тваих детей есть небальшой сувенир. Вот этот маленький калечко с два карат бриллиантом. Очень хачу, чтобы твая дочка насила, когда бальшой вырастет. Падажди! Падажди, не красней, дарагой, это не взятка! Это же не тебе! Тваей дочке! А мне все равно не нужно, не могу вывезти, запрещено бриллианты из СССР вывозить. Ну, что делать? Вибрасывать? Хочешь — в окно вибрашу, да? При тебе счас вибрашу, клянусь матери магилой! Лучше возьми для дочки, не обижай ребенка!..
После такой «разведки боем» остальная операция по проталкиванию багажа без досмотра была уже делом техники. Как только начальник таможни опускал колечко (или кулон) в свой карман, посетитель спрашивал:
— Слушай, друг, а ваапще у твоей жены кагда день раждений?
— Ну, еще не скоро…
— Очень жалко! Слушай, а может быть, я ей магу заранее цветы падарить? Ты не будешь ревновать, правда? Я уже уезжаю. Какой твой домашний адрес?
Интересно, что ни один из этих посетителей никогда не делал подарков самому начальнику таможни — даже мундштука ему не подарили! А только — его жене и детям. Им и только им в тот же вечер доставлялись на дом ящики с коньяком «Арарат» и виски «Белая лошадь», коробки с сигаретами «Мальборо», гигантские «Киевские» торты, корзины с отборными фруктами, а в прихожей посетитель как бы невзначай опускал в карман висевшего на вешалке хозяйского пальто толстый конверт с пачкой сторублевых купюр.
После пары месяцев такой усиленной сионистской обработки очередной начальник Московской грузовой таможни в отчаянии от потери своей кристальной честности глушил остатки партийной совести в ресторанах «Арагви» и «Узбекистан» жирными шашлыками, литрами водки и профессионально-нежными заботами юных красоток, состоящих на комсомольском учете во Втором Оперативном управлении КГБ СССР. Рано или поздно для одной из таких комсомолок начальник таможни снимал однокомнатную квартиру где-нибудь в районе «Войковской» или «Речного вокзала» и там, в порыве пьяного самобичевания, плача и разрывая на себе рубашку, каялся в том, что «продался жидам».
Дальнейшее было рутиной, малоинтересной для массового читателя. Ну, увольняли грешника, ну, переводили на другую работу с выговором по партийной линии. Но никогда не судили. Зачем привлекать общественное внимание к человеку, случайно попавшему в сети сионизма?
За матово-стеклянной дверью кабинета начальника грузовой таможни появлялся новый самоуверенный офицер с незапятнанной анкетой, большим партийным стажем и дюжиной благодарностей за «преданность Родине» и «оперативность в работе».