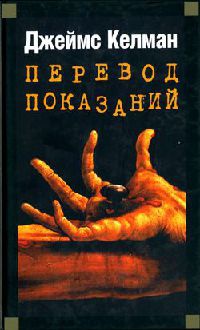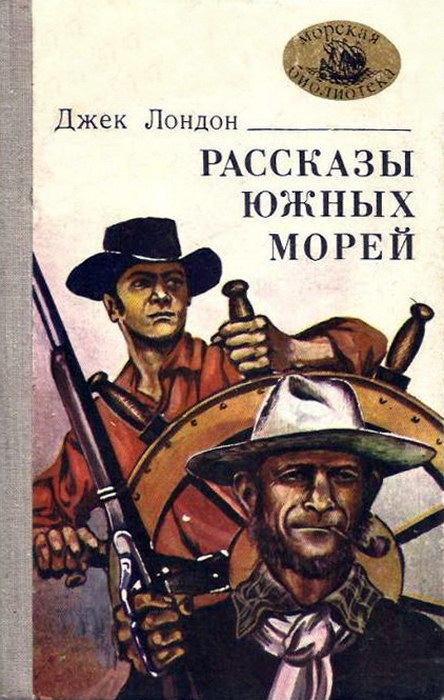Книга Кнульп. Демиан. Последнее лето Клингзора. Душа ребенка. Клейн и Вагнер. Сиддхартха - Герман Гессе
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Она повелительно взглянула на него.
– Не знаю, – сказал Клейн. – Я пришел без определенных намерений. Я люблю вас со вчерашнего дня, но об этом нам ведь незачем говорить.
– Да, поговорим о другом. Вчера между нами в какой-то миг было что-то, что меня заинтересовало и испугало, словно у нас оказалось вдруг что-то схожее или общее. Что это такое? И главное – что это за перемена произошла с вами? Как это получилось, что в течение одного часа у вас было два совершенно разных лица? У вас был вид человека, с которым случилось что-то очень важное.
– Какой у меня был вид? – спросил он по-детски.
– Ну, сперва вид пожилого, довольно брюзгливого, неприятного господина. Вид мещанина, привыкшего срывать на других злость за собственную никчемность.
Он слушал с большим интересом и энергично кивал головой. Она продолжала:
– А то, что было потом, после, описать это трудно. Вы сидели, слегка наклонившись вперед; когда вы случайно попались мне на глаза, я в первую секунду еще подумала: господи, до чего же у этих мещан грустные позы! Вы подпирали голову рукой, и вдруг это стало выглядеть очень странно, так, будто вы – один в целом мире и вам совершенно все равно, что будет с вами и со всем миром. Ваше лицо было как маска – то ли до ужаса грустно, то ли до ужаса равнодушно…
Она запнулась, как бы ища слов, но ничего больше не сказала.
– Вы правы, – скромно сказал Клейн. – Вы увидели все так верно, что мне впору дивиться. Вы прочли меня, как письмо. Но ведь это, в сущности, естественно и правильно, что вы все это увидели.
– Почему естественно?
– Потому что, танцуя, вы чуть по-другому выражаете это же. Когда вы танцуете, Терезина, да и вообще в иные мгновенья, вы, как дерево, или гора, или животное, или звезда, совсем одиноки в мире. Вы не хотите быть никакой, кроме такой, какая вы есть, не важно, добрая ли вы или злая. Разве это не то же самое, что вы увидели во мне?
Она испытующе поглядела на него не отвечая.
– Вы странный человек, – сказала она затем нерешительно. – Так что же – вы действительно такой, каким тогда выглядели? Вам действительно безразлично, что с вами будет?
– Да. Только не всегда. Часто мне бывает и страшно. Но потом опять это возвращается, и страх проходит, и тогда все небезразлично. Тогда ты силен, или, пожалуй, безразлично – не то слово, вернее сказать, все восхитительно и желанно, и будь что будет.
– В какой-то миг я даже сочла возможным, что вы – преступник.
– Это тоже возможно. Даже вероятно. Понимаете, преступник – это так говорится, а имеется в виду, что человек делает что-то такое, что другие запретили ему делать. Но ведь сам-то он, преступник, делает только то, что в нем есть… Понимаете, в этом и состоит сходство между нами: мы оба порой, в редкие мгновенья, делаем то, что в нас есть. Это величайшая редкость, большинство людей вообще этого не знает. И я тоже не знал этого, я говорил, думал, делал только чужое, только заученное, только хорошее и правильное, я жил такой заученной жизнью, пока в один прекрасный день это не кончилось. Я больше не мог, я должен был уйти прочь, хорошее перестало быть хорошим, правильное – правильным, жизнь сделалась нестерпимой. Но я хочу все-таки терпеть ее, я даже люблю ее, хотя она доставляет столько мук.
– Может быть, вы скажете мне, как вас зовут и кто вы такой?
– Я тот, кого вы видите перед собой, и никто больше. У меня нет имени, нет звания, нет и занятия. От всего этого мне пришлось отказаться. Дело со мной обстоит так: после долгих лет добропорядочной и трудовой жизни я в один прекрасный день упал из гнезда, это случилось не так давно, и теперь мне придется либо погибнуть, либо научиться летать. До мира мне больше нет дела, я теперь совершенно один.
Немного смущенно она спросила:
– Вы не были в лечебнице?
– Сумасшедший, думаете? Нет. Хотя и это могло бы быть.
Он отвлекся. Мысли захватили его изнутри. Забеспокоившись, он добавил:
– Когда об этом говорят, даже самое простое сразу делается сложным и непонятным. Не надо нам говорить об этом!.. Ведь так поступают, ведь говорят об этом только тогда, когда не хотят это понять.
– Что вы имеете в виду? Я действительно хочу понять. Поверьте мне! Меня это очень интересует.
Он оживленно улыбнулся.
– Да, да. Вы хотите об этом побеседовать. Вы что-то узнали и теперь хотите об этом поговорить. Ах, это не поможет. Говорить – это верный путь к тому, чтобы все понять не так, сделать все плоским и скучным… Вы же не хотите понять меня, да и себя тоже! Вы хотите только сохранить спокойствие, несмотря на то что почувствовали какой-то призыв. Вы хотите отделаться от меня и от этого призыва тем, что находите рубрику, под которую можно меня подогнать. Вы берете на пробу преступника и душевнобольного, хотите знать мое положение и имя. Но все это только уводит от понимания, все это обман, милая барышня, все это плохие заменители понимания, все это скорее бегство от желания понять, от обязанности понять.
Запнувшись, он страдальчески провел рукой по глазам, затем, по-видимому, вспомнил о чем-то приятном и опять улыбнулся.
– Ах, понимаете, когда вчера вы и я в какой-то миг чувствовали совершенно одно и то же, мы ничего не говорили, ничего не спрашивали и ни о чем не думали… Мы вдруг подали руки друг другу, и это было хорошо. А сейчас… сейчас мы говорим, думаем, объясняем, и все, что было таким простым, стало странным и непонятным. А ведь вам совсем легко было бы понять меня так же хорошо, как я понимаю вас.
– Вы думаете, что так хорошо меня понимаете?
– Да, конечно. Как вы живете, я не знаю. Но вы живете, как жил я, как живут все, большей частью во мраке