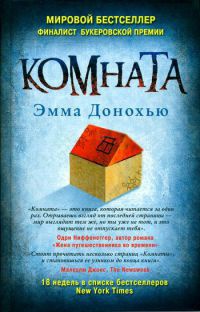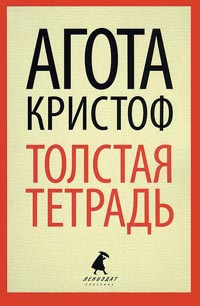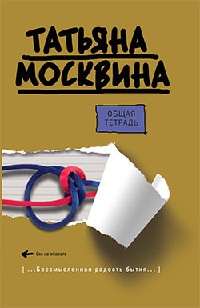Книга Бездна - Александр Лаптев
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
И лицо его расслаблялось в блаженной улыбке, так что товарищи косились на него, потом переглядывались и кивали друг другу с понимающим видом. Им казалось, что этот нелепый старик потихоньку сходит с ума. Они так и ждали, что он выкинет какую-нибудь штуку: бросится с кручи вниз, или запустит кайлом в охранника, или вдруг зальётся идиотским смехом, так что придётся его бить, пока не издохнет. Но Пётр Поликарпович лишь тихо улыбался и ничего такого не вытворял. Все так и решили, что помешательство его безобидное. Интерес к нему постепенно угас.
Только бригадир всё присматривался, всё хмурился, глядя на Петра Поликарповича. Этот заключённый не нравился ему. Он сразу почуял в нём чужака. Этот внимательный взгляд, тихая речь, повадки интеллигента – всё было чужое и чем-то очень неприятное. «Иван-иванычей» в лагерях не любили. Как-то ещё терпели работяг, подтрунивали над деревенской простотой, в открытую смеялись над попами, но вот интеллигенты здесь были на особом счету. Им мстили за все унижения, подлинные и мнимые, которые эти умники чинили простым советским людям на воле. Там они командовали и ухмылялись, важничали и чванились; здесь же им пришлось хлебнуть всего того, что с рождения хлебали «простые советские люди» без высшего образования – пахари и работяги, слесари и лудильщики. Всю свою злобу, все обиды и все унижения возвращались к интеллигентам сторицей. И это казалось всем правильным и справедливым. Не надо было гордиться на воле, не пришлось бы теперь раскаиваться и плакать горючими слезами.
Пётр Поликарпович чувствовал нарастающую враждебность товарищей. С ним не разговаривали нормальным языком, то и дело толкали при выходе из барака («Ну ты, ходи да поглядывай!»), не пускали за общий стол в столовой («Жри стоя, так больше войдёт!»), ему доставались худшие инструменты при утренней раздаче в инструменталке – погнутые лопаты и слетающие с деревянной ручки кайла. Он всё это терпел. Силы постепенно убывали, и он считал каждый прожитый день.
В середине апреля вдруг подул тёплый ветер с юга. Пётр Поликарпович вышел из шахты, повернулся навстречу тёплому ветру, расправил плечи и стал глубоко дышать; в голове приятно зашумело, почувствовалось что-то очень хорошее, хоть и бесконечно далёкое. Солнце стало раньше показываться из-за соседней горы. Но снег ещё не таял, не сбегал ручьями по склонам, а как бы испарялся, истончался и сходил на нет. Пётр Поликарпович внимательно рассматривал открывающуюся перспективу. Хорошо было смотреть с высоты. Было видно, как река изгибается вправо, пробивая себе путь среди каменной гряды. Огибая лагерь и стоящую на берегу фабрику, речка стремилась на запад, а потом должна была повернуть на юг, к морю. При мысли о том, как он поплывёт по этой речке на плоту, у него сладко ныло сердце. О том, что по обеим берегам Армани стоят оперпосты, что через тридцать километров река достигает Мадауна, в котором полно народу и плот сразу заметят, – Пётр Поликарпович не думал. Всё это было лишнее, мешающее счастью. Он не мог лишить себя надежды на спасение, какой бы призрачной она ни была. Если бы надежда исчезла, он не смог бы дальше жить.
В конце апреля его перевели в другую бригаду, и это был добрый знак. Больше не надо было подниматься на проклятую гору и весь день долбить мёрзлый камень. Теперь он ходил за дровами за территорию лагеря, собирал хвою стланика в большие кули, носил воду с речки в столовую и баню. Всё это не шло ни в какое сравнение с ледяным штреком. Тут было разнообразие впечатлений, можно было перевести дух и оглядеться. И главное – не было производственного плана, никто не стоял над душой и не требовал «кубики», не пугал карцером, не замахивался лопатой и чем придётся. Да, это было доброе предзнаменование! К тому же Пётр Поликарпович получил возможность осмотреть местность, пройтись по лесным тропам, лучше узнать обстановку вокруг лагеря. Обычно они с утра уходили на север по узкому распадку вдоль ручья; местность едва заметно шла на подъём, слева высилась гора, а справа тёк ручей. Здесь же росли невысокие лиственницы, белки проворно скакали по веткам, а над головой сквозило синевой безоблачное небо. И хотя по утрам было морозно, уже чувствовалось всепобеждающее дыхание весны. Снега становилось заметно меньше, обнажались белёсые зеленоватые мхи, и уже можно было найти прошлогоднюю ягоду среди травы – бруснику и голубику. Ягоды были маленькие, сморщенные, бордового и фиолетового цвета. Но вкус у ягод был потрясающий, какой-то космический – сладко-кислый, чуть забродивший. От ягод кружилась голова, тело становилось невесомым, хотелось упасть среди кустов и лежать так, вдыхая странные запахи оттаивающей земли. Это был не запах цветов, и не благоухание трав, и не весенняя прель, а что-то острое, со скипидарным привкусом, и вместе с тем пряное, кружащее голову. Запах казался неприятным, порой невыносимым, и в то же время хотелось вдыхать его всей грудью, упиться диковинной смесью, составляющей глубинную суть этой сопротивляющейся жуткому холоду земли. Мысли прояснивались, становились особо чёткими и почти осязаемыми, взгляд обретал остроту и выхватывал мельчайшие детали; все предметы в лесу, все камни, деревья, ветки и рыжая хвоя на земле – всё это чувствовалось самым непосредственным образом, словно было частью естества, его продолжением и тайной сутью. Хотелось взять в руки иссохшие хвоинки и растереть их в пыль; было неодолимое желание слиться с оживающей от зимней спячки землёй, стать частью этой молчаливой природы, раствориться в ней без остатка. Вся прошлая жизнь казалась Петру Поликарповичу одним пёстрым сновидением. Книги, писательские съезды, Максим Горький, революция, бравурные марши, пятилетки, всеобщий энтузиазм… Было ли это всё? Он ли писал книги о Гражданской войне, о героизме простых людей, об их подвигах во имя освобождения трудящихся от гнёта помещиков и попов? Почему же теперь он здесь – на положении дикого зверя? Бредёт как лунатик по незнакомому лесу, радуется каждой ягодке и уже не думает ни о подвигах, ни о мировой революции? Как это всё произошло? И что случилось со всей страной? Быть может, власть захватили враги советской власти? Так нет же, кругом красные знамёна, пятиконечные звёзды и всё те же лозунги, какие были и двадцать лет назад. Ленина, правда, нет с нами. Но есть же Сталин – продолжатель его дела, несгибаемый борец с мировым злом, вождь мирового пролетариата. Так почему Пётр Поликарпович оказался по ту, а не по эту сторону баррикад? Почему его называют контриком и делают всё, чтобы он сгинул в этих безжизненных сопках?
Пётр Поликарпович возвращался в барак, ложился на своё место и лежал с закрытыми глазами. Перед глазами были каменистые склоны, тёмная река, бездонное синее небо, багровый брусничник, густой светло-зелёный мох, густо усыпанный рыжими иголками. Кажется, это так просто: взял и пошёл по этому мху, по кустам и медвежьим тропам! Будешь идти много дней и ночей без остановки! И в конце концов придёшь куда-нибудь. Где-нибудь да будет край земли – место, где нет лагерей и колючей проволоки, где легко дышится и не нужно бояться. Думая об этом, Пётр Поликарпович едва заметно улыбался. Сосед по нарам видел эту странную игру эмоций на его лице и однажды решил спросить:
– Ты чего лыбишься?
Пётр Поликарпович открыл глаза. У соседа было вытянутое лошадинообразное лицо, густые брови, обтянутые серой кожей острые скулы. А глаза были как у волка. И всё же Пётр Поликарпович понял, что человек этот не злой, не зверь, как некоторые. Просто он смертельно устал и болен. А ещё – он никому не верит и никого не любит. Да и кого тут любить? В лагере нет места для любви и жалости, для сострадания, даже и для задумчивости.