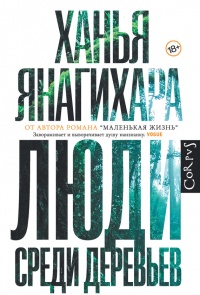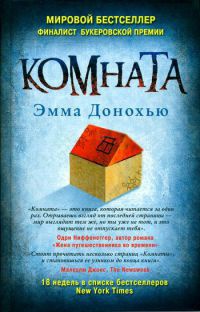Книга Сцены из провинциальной жизни - Джон Кутзее
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Она не знает, есть ли у нее вообще на что-нибудь настроение. Однако ее настроение перестает иметь значение, когда в двадцати километрах от Мервевилля мотор начинает чихать и Джон, нахмурившись, глушит машину. Пикап спускается под уклон с выключенным мотором и наконец останавливается. Запах горелой резины проникает в кабину.
— Снова перегрелся, — заключает Джон. — Я сейчас, минутку.
Он извлекает из кузова канистру с водой, отвинчивает крышку радиатора, уворачиваясь от вырвавшегося со свистом пара, и льет воду в радиатор.
— Этого должно хватить, чтобы мы добрались домой, — говорит он. И пытается завести мотор. Ничего не выходит.
Она достаточно хорошо знает мужчин, поэтому никогда не спрашивает, разбираются ли они в машинах. Она не дает советов, старается не проявлять нетерпения, даже не вздыхать. Целый час, пока он возится с машиной и, пачкая одежду, снова и снова пытается завести мотор, она хранит благожелательное молчание.
Солнце начинает спускаться за горизонт, он продолжает трудиться в сгущающихся сумерках.
— У тебя есть фонарик? — спрашивает она. — Я могла бы тебе посветить.
Нет, фонарика он не захватил. Кроме того, поскольку он не курит, у него нет даже спичек. Да уж, не бойскаут, просто городской мальчик, беспомощный городской мальчик.
— Я схожу за помощью в Мервевилль, — наконец предлагает он. — Или можем пойти вместе.
На ней легкие босоножки. Она не собирается ковылять в босоножках двадцать километров в темноте по вельду.
— К тому времени, как ты дойдешь до Мервевилля, будет полночь, — говорит она. — Ты там никого не знаешь. Там нет автосервиса. Кого ты собираешься уговорить починить твой грузовик?
— Тогда что ты предлагаешь?
— Будем ждать здесь. Если повезет, кто-нибудь проедет мимо. Или приедет Майкл, который начнет искать нас утром.
— Майкл не знает, что мы поехали в Мервевилль. Я ему не сказал.
Он в последний раз пытается завести мотор. Когда он поворачивает ключ, раздается глухой щелчок. Батарейка сдохла.
Она вылезает и, отойдя на приличное расстояние, опорожняет мочевой пузырь. Поднялся слабый ветер. Холодно, а будет еще холоднее. В грузовике нет ничего, чем они могли бы прикрыться, — даже брезента. Если они собираются ждать всю ночь, нужно устроиться в кабине. А потом, когда они вернутся на ферму, предстоят объяснения.
Пока она не унывает и даже находит в ситуации мрачный юмор. Но скоро все изменится. Им нечего есть, даже нечего пить, кроме воды из канистры, которая пахнет бензином. От холода и голода ей станет не до шуток. А в свое время ее будет донимать еще и бессонница.
Она закрывает окно.
— Давай забудем, — говорит она, — что мы мужчина и женщина, и будем без стеснения согревать друг друга. Потому что иначе замерзнем.
За те тридцать с лишним лет, что они знают друг друга, они иногда целовались, как это делают двоюродные брат с сестрой, то есть в щечку. И обнимались. Но сегодня им предстоит близость совсем иного рода. На этом жестком сиденье, когда мешает рычаг переключения скоростей, им придется каким-то образом улечься рядом, согревая друг друга. Если повезет и им удастся уснуть, придется переносить еще и унижение от храпа — своего или чужого. Какое испытание!
— А завтра, — продолжает она, позволив себе единственную колкость, — когда мы вернемся в цивилизацию, может быть, ты сможешь устроить, чтобы твой грузовик должным образом отремонтировали. В Леув-Гамка есть хороший механик. Майкл обращается к нему. Это просто дружеское предложение.
— Прости. Это моя вина. Я пытаюсь делать все сам, тогда как действительно нужно обратиться к более компетентным людям. Это из-за страны, в которой мы живем.
— Страны, в которой мы живем? Страна-то чем виновата, что твой грузовик все время ломается?
— Из-за нашей долгой истории, когда мы заставляли других выполнять нашу работу, а сами сидели в тени и наблюдали.
Значит, вот в чем причина, почему они в темноте и холоде ждут, чтобы кто-нибудь проехал и спас их. Чтобы доказать, что белые люди должны сами чинить свои машины. Как комично.
— Механик в Леув-Гамка белый, — говорит она. — Я не предлагаю, чтобы твою машину чинил туземец. — Ей бы хотелось добавить: «Если ты хочешь сам делать ремонт, ради бога, пройди сначала курс по ремонту машин». Но она придерживает язык. — Какую еще работу ты считаешь необходимым выполнять самому, — спрашивает она, — кроме ремонта машин? — «Кроме ремонта машин и сочинения стихотворений».
— Я работаю в саду. Делаю ремонт в доме. Сейчас я меняю канализационные трубы. Может быть, тебе это кажется смешным, но мне не до смеха. Это символический жест. Я пытаюсь нарушить табу на физический труд.
— Табу?
— Да. В Индии существуют табу для людей высшей касты: им нельзя убирать — как бы это сказать? — человеческие отходы, а в этой стране, если белый человек прикасается к мотыге или лопате, он сразу же становится нечистым.
— Что за вздор ты несешь! Это же неправда! Это просто предрассудки против белых!
Она жалеет об этих словах, едва их произносит. Она зашла слишком далеко, загнала его в угол. Теперь, в довершение всего, придется разбираться еще и с его обидой.
— Но я понимаю твою позицию, — продолжает она, протягивая руку помощи, так как ему не справиться самому. — Ты прав в одном: мы слишком привыкли не пачкать руки, наши белые руки. Но нам нужно быть готовыми испачкать руки. Я вполне с тобой согласна. Закрыли тему. Тебе еще не хочется спать? Мне нет. У меня есть предложение. Чтобы убить время, почему бы не рассказать друг другу какие-нибудь истории?
— Сама и рассказывай, — отвечает он сухо. — Я не знаю никаких историй.
— Расскажи историю об Америке, — просит она. — Ты можешь ее сочинить, это не обязательно должно быть правдой. Любую историю.
— Про существование личного Бога, — говорит он, — с белой бородой, абракадабра вне времени, который с высот божественной апатии глубоко нас любит абракадабра с некоторыми исключениями.
Он умолкает. Она не имеет ни малейшего представления, о чем он говорит.
— Абракадабра, — произносит он.
— Сдаюсь, — говорит она. Он молчит. — Моя очередь. Я расскажу историю о принцессе на горошине. Жила-была принцесса, такая нежная, что даже когда она спала на десяти пуховых перинах, положенных одна на другую, то вообразила, будто может почувствовать горошину, такую твердую маленькую горошину под последней периной. Она мучается («Кто положил туда горошину? Зачем?») и в результате не смыкает глаз всю ночь. И выходит к завтраку с измученным видом. Принцесса жалуется своим родителям, королю с королевой: «Я не могла глаз сомкнуть, и все из-за этой проклятой горошины!» Король посылает служанку убрать горошину. Женщина ищет и ищет, но не может найти.
«Я больше слышать о горошинах не хочу, — говорит король дочери. — Горошины нет. Горошина существует только в твоем воображении».