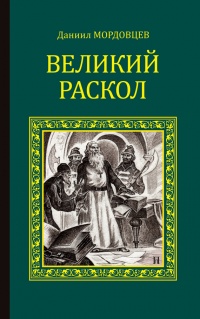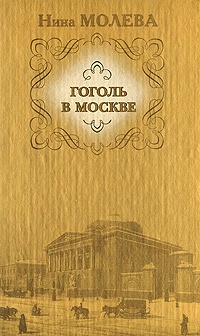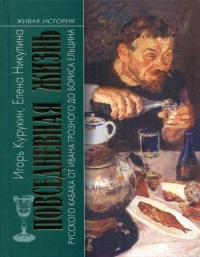Книга Гарь - Глеб Пакулов
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
— А не всё, Роман, — засмеялся Аввакум. — Уж не утаи ответ греческих иерархов.
— Да што и таить. Все знают, — улыбнулся Стрешнев. — На вопрос Никона, нельзя ли подтянуть меня вместе со псиной под строгую статью церковного Устава о богохульстве, Макарий, посовещавшись с Паисием и другими иереями, отписал так: «Бывает, мышь поточит в алтаре зубками просвиру, но это не значит, что она причастилась. И пёсье благословение — не есмь благословение». И что скажу, — давясь смехом, доложил Стрешнев. — Прознав про ответ, Алексей Михайлович ох как повеселился, да не один — все в Верху дворца весьма потешились.
— Ну пошто он Указу не издал мышей из церквей изгонить, — отсмеявшись, спросил Аввакум. — А с имя заодно и никониян, грызущих нашу веру, яко крыс. Славно было бы, — вздохнул протопоп.
Не мог сидеть тихо Аввакум, зная, что друзья-боголюбцы мучаются в цепях по подвалам, и пошёл, как прежде, говорить народу на торгах, площадях и улицах. И снова люд слушал, ходил за ним толпами, а он, в окружении Христа ради юродивых «яко свитой горней», казался воистину пророком, вернувшимся волей Божьей из смертных пустынь сибирских, дабы восстановить порушенную веру дедичей. И опять запустошились храмы. Князья церкви заваливали дворец жалобами, наседали на самого упрямого протопопа, а он отмахивался от них и без устали проповедовал люду:
— Народец, бедной, мается на толсторожих седьмицу, а в един день недельный притащится к церкви, а там и послушать нечего: по латыни поют, в глаза, как мухи, с крестом-растопыркой лезут, и лба перекрестить не на что, у святых на образах, что у новых пастырей, червонные уста и щёки толсты. Да прозри, дурачищо, болишь слепотою — предание веры нет от никониан-попов, ни от чёрных, ни от белых, оно едино от Исуса Христа. Не дивись на их тучные брюхи, таковы и у коров есть, да лиша лепёхами гадить горазды, што белая, што чёрная корова.
Недавно поставленный в митрополиты Павел и рязанский архиепископ Илларион особенно старались в докладах царю:
«Протопоп Аввакум своими криками безумными многих людишек вкрай застращал и от церквей отбил, а за Москвой-рекою в Садовниках храм Софии вконец запустошил, и ныне, государь, прихожан в ней нету, а в которые ввёл, и службы по-старому и попов-перемётчиков к тому приохотил». И списки речей Аввакумовых прилагали и, читая их, мрачнел Алексей Михайлович:
«А царь наш держит в руках чудотворный жезл Моисеев и волен творити им дивные чудесы в управлении царства православного, в его дланях полное самодержавство, так творил бы по-Божески во славу Отечества, а не потворствовал никонскому людодёрству. Это ж Никон — выблядок сотонинской — завёл порядок худобными похотями губить правых в Русском государстве, объявив бойню люду православному, это он, пьяной портняшка, как начал пороть тупым ножом старую веру нашу, так царь от его кудес мале с ума не спаде, спужался и отогнал портняшку, да и сам, бедной, принялся допарывать, не ведая, што из кусков тех напоротых скропается. Вкрай озлостил народ, то и гляди восстанет соборно по всей Руси и всё что ни есть перед ним хрястнет через колено. Но пождём ишшо, милые, небось царь есть от Бога учинён и исправится помаленьку с помощью людей верных, а их многонько таких-то. Сказать ли вам, кому я подобен, сбирая вас вкруг себя?.. Подобен я нищему человеку, ходящу по улицам града и по окошкам милостыню просящу. Он день промышляет и, придя домой, домашних своих пропитав, на утро опять волокётся. Тако и я по все дни волочусь, сбираю милостыню и вам, питомцам церковным, предлагаю — ядите, веселитеся и живы будете. А я опять и опять у богатого человека Христа ломоть хлеба выпрошу, у Павла-апостола, у богатого гостя, из полатей его хлеба крому получу, у Ивана Златоуста, у торгового человека, кусок словес его боголепных выклянчу, у Давида-царя и у Исайи-пророка, у посадских людей по четвертинке каравая разживусь. Наберу кошель, да и вам раздаю, жителям в дому Бога моего. Ну, ешьте на здоровье, питайтеся, не мрите с голоду, а я ещё стану без устали сбирать по окошкам. Они опять мне надают, добры до меня люди те — помогают моей нищете, чтоб я с вами, бедненькими, делился, берёг от лихой смертоньки — заразы никонианской. Да всё тяжче промышляю, понеже царь-государь окормлению моему противится и облачённый в доспехи Никона-антихриста, кованым сапогом выю мою преступи. Все они, власти, еретики от первого до последнего, да я не боюся их, пускай разделят промеж собою вся глаголы мои».
Читал Алексей Михайлович списки речей Аввакумовых, да не один он читал их: ходили они во множестве средь люда простого, не только им говоренные, но и другими ревнителями древнего благочестия, что дрызгались с никонианами ещё и похлещё. Царь посоветовался с начальными людьми, и решили созвать Собор со вселенскими патриархами, дабы лишить наконец Никона сана пастыря всероссийского и поставить своего смиренномудрого, а пока суд да дело — убрать из Москвы осмелевших не к добру старообрядцев.
С царским Указом в конце августа пришли к Аввакуму стрелецкий голова Юрий Лутохин и боярин Салтыков Пётр Михайлович, назначенный главой следственной комиссии по делу Никона, брат Сергея Салтыкова, которого Аввакум в своём письме настоятельно советовал царю поставить в патриархи всея Руси. Аввакум был дома один. На приглашение присесть к столу боярин отказался и без обиняков объявил протопопу слова Алексея Михайловича: «А поезжай-ка ты опять в ссылку протопоп, на далёкие пустыни северские, в местечко Пустозерское, и живи там с семьёй, покуда не позову». — Вот Указ и подорожная, а быть тебе под приглядом стрелецкого головы. Утром до восхода надобно убраться, подводы подадут к воротам.
Передал пакет Лутохину, постоял, пощипывая ус, добавил:
— И не гневи государя писаньицами дерзкими. Он уж их видеть не может. Ты и братцу моему добрую свинью подложил, наметив его в патриархи. Бутто без твоих сказок царь-батюшка никак не знает, кого ему надо. Молись за него и шли благословения, времени у тебя будет многонько.
Кивнул протопопу и вышел, саданув дверью, аж забултыхался в бадье медный ковшец, хлебнув краем водицы, забулькал и мелькнул вниз, тупо стукнув в днище.
— К утру-то успеешь? — спросил Лутохин, оглядывая избу. — Гляжу, бутора маловато, не успел натаскать, а семейства-то сколь?
— Двенадцать будет, — задумался и чему-то улыбнулся Аввакум. — Ты, Юрий Петрович, возок мой с морозовского дворища подгони, матушка в нём привыкла по Сибирам ездить бояроней.
Улыбнулся и Лутохин.
— Как привыкла, так подгоню, чего там, — прихмурился, спустил глаза. — И чего не уймёшься, протопоп? Семью мучаешь? По мне старый ли, новый обряд, а ты становись в ряд, не выпячивайся и уса не раздувай, хорош будешь. Ну, до утра, будь оно доброе.
И вновь покатили телеги с Аввакумом по знакомой дороге от Москвы до Вологды, а там уж по зимнику дотянулись до Холмогор. Городишко маленький тонул в сугробах, без передыху дул с Белого моря злобный ветер-шалоник, загоняя всё живое в придавленные снегом избёнки. До поры, пока не уймутся пурги, семью протопопа поместили в одну из таких — курную, промороженную, домашние и сам он кашляли рвущим лёгкие глухим кашлем, кутались во все припасённые одёжки и всякое тряньё, их то трясло от холода, то душило от внутреннего жара. Марковна, как умела, ухаживала за ними, спасала, да и сама свалилась, обеспамятев металась в поту, а когда приходила в себя, поднимала на Аввакума поблекшие от хвори глаза и, пытаясь ободрить его, виновато улыбалась потрескавшимися от горячечного дыхания губами. И впервые пал духом Аввакум, накарябал негнущимися пальцами челобитную, держа чернильницу над огоньком плошки, и отправил её с подвернувшимся гонцом, оленеводом-каюром: