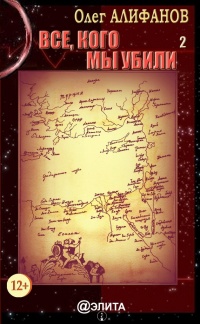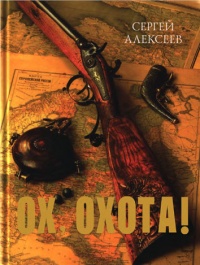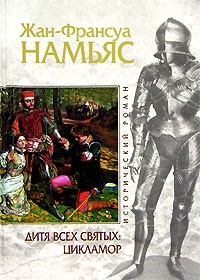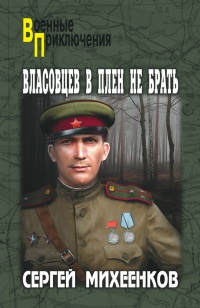Книга Дочь седых белогорий - Владимир Топилин
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
– Он лежал так, – уперся он локтем в землю. – А голова была на корне, – повторяя движения, попытался высунуться из-за дерева. – Тут, отнако, живица беги. Моя порота прилипай, вот волос мой. А его волоса – нет. Как так? Потому как волос у него на лице нет.
– Это что, значит, он бритый? Ну, бреется, что ли? … – тихо промолвил Семён и страшными глазами посмотрел на мужиков.
– Отнако, так. У него тут, – показал Загбой себе на подбородок, – метка есть, точка. Смола липкая, свежая. Слет хорошо оставляет.
– Кто у нас… в тайге бреется? – загробным, холодным голосом спросил Петро.
Илья задумчиво посмотрел куда-то вдаль и, вспоминая, перечислил:
– Дык… Только двое. Прохоров и Воловский…
– От-т оно что! … – выдохнул Семён. – Знать, кто-то из них.
Загбой, не слушая их, попятился назад, вычисляя выходной след. Нашёл-таки, прошёл по нему, почему-то остановился, дотронулся рукой до ствола пихты, провёл ладонью по сучку, что-то разглядывая, зашептал и наконец-то повернулся:
– Когда человек хоти назат, на сучек ткнулся. Вот свежий излом. Тут, – показал на левую щёку чуть пониже глаза, – есть слет. Может, царапина или ссадина…
Сказал просто, вроде как допил кружку чая. Но выдал столько информации, удивил своей наблюдательностью. Поразил старателей знаниями, вызвал уважение. Прошёл ещё несколько шагов, разочарованно развёл руками:
– Всё, отнако. Польсе слета нет. Говорить польсе не могу.
Усмехнулись мужики в бороды, сверкнули глазами:
– А больше и говорить ничего не надо. И так всё сказано. Спасибо, Загбой Иванович! Огромную службу ты нам сослужил. Помог, лучше и не надо. Теперь дело за нами… – проговорил Семён и уже сурово добавил: – Кто пойдёт?
– Я пойду, – холодно вызвался Илья и, более не говоря ни слова, повернулся и пошёл по тропинке к баракам.
Все посмотрели ему вслед, друг за другом пошли к костру. Ждали недолго. Минут через десять Илья вернулся, не говоря ни слова, опустился на колени перед чайником, налил в кружку кипяток и приложился губами к душистому напитку. Шумно хлебнул несколько больших глотков, поочередно посмотрел на всех восторженными, возбуждёнными глазами и глухим, каким-то загробным голосом произнёс свой приговор:
– Воловский это. Сапоги старые, борода недавно бритая. На локте свежая земля, уже успела за ночь высохнуть. Тут, – показал на подбородок – тёмное пятно от смолы. А на щеке царапина свежая, ещё коростой не покрылась. Всё, как и говорил Загбой. Спросил у него, где щеку поранил. Даже ума не хватило соврать, так и сказал, что на сучок ткнулся, когда ночью по малому ходил…
– Ах ты, сука… Крыса вонючая! Вон, кто, значит, у нас «ворон-то»! – зашипел Семён. – Вот и ладушки. Отлетался, птица певчая…
– Отнако, пашто не летай? – предчувствуя недоброе, спросил Загбой.
– Пашто отлетался? – переспросил Петро и злорадно засмеялся. – А это значит, что теперь плавать будет. Твоей Большой рыбе закусь намечается…
Тревожно на душе у Загбоя. Болит сердце, предчувствуя недоброе. Стонет разум, ожидая плохое. Сидит охотник у костра, смотрит на огонь, спрашивает своего покровителя Амаку и не может дождаться ответа. Многое непонятно следопыту, что происходит у русских.
Прошло несколько дней, как Дмитрий привёл людей в тайгу. И за это время в жизни Загбоя, произошли большие перемены.
Спокойное, размеренное существование следопыта окончилось. Изменился и мир тайги. Из долины Трехозёрья ушёл зверь. Птицы покинули свои излюбленные места. С тревожным криком снялись и улетели белоснежные лебеди. Ураганный вихрь, развернувшись на вырубах, повалил десятки могучих исполинов-кедров. Даже вездесущие гнус-комарье, потеряв основу приюта – выбитая многочисленными ногами трава – отдалились в глубь девственной тайги. Но самым главным проявлением царствования человека явилась гнетущая обстановка, невидимым чёрным покрывалом нависшая над прибрежными заливными лугами, притихшим лесом и безмолвным озером. Отношение людей друг к другу, влияние хозяйской руки, новые законы, превосходство одной личности над другой породили напряжение, которое зависло в воздухе недобрым предзнаменованием.
Теперь Загбой приезжал в свой чум раздражённым, с чувством некоторой неуверенности, как будто там его ждали не тепло, кров и уют, а холод, голод и мрак. Недобрые, косые взгляды Дмитрия, равнодушие приказчиков, угрюмое настроение старателей угнетали его состояние. Все было не так, как происходило всего лишь полгода назад. Спокойное дыхание матери-природы, размеренное шествие времени, благодатное влияние окружающего мира растворилось, исчезло, как весенний снег. Даже Ченка стала непохожей на себя, замкнутой, пугливой, обиженной. Охотник забыл то время, когда она пела свои тёплые, весёлые песни, когда её нежные руки ласкали собак, а на смуглом лице светилась милая, почти детская улыбка.
Загбой предлагал дочери уйти от людей, но она всегда отвечала печально отказом. Она была матерью дочери, которой нужен был отец, и не могла покинуть Дмитрия, как бы этого ни требовала обстановка. Он понимал её и как любящий отец соглашался с её желанием остаться здесь. А соглашаясь, не мог бросить её, внучку и уйти в безбрежные просторы тайги.
А время шло. Через месяц на берегах Туманихи уже жило не двадцать человек, а несколько сотен. Новоявленные хозяева тайги гнали старателей, разнорабочих в тайгу, на новое месторождение золота. Берега реки разбились на участки, в результате чего возникло сразу же несколько приисков. Строились бараки, склады, пригоны для животных, бани, магазины, золотоскупки. Десятки мозолистых, сильных рук били шурфы, рыли отводные канавы, накладывали колоды, отмывали в кедровых лотках «ржавые пески».
Мир цивилизации ворвался в дикую тайгу смертельным прыжком росомахи: напористо, смело, кровожадно. И не было спасения от этого натиска ничему живому, начиная от безобидного муравья до хозяина тайги – медведя. Более слабый животный мир отступал, оставляя свои родные, девственные угодья. Летели щепки, падали деревья, земля дыбилась от взрывов динамита, чистая, прозрачная вода рек и ручьёв окрашивалась в бурый цвет – кровь земли – в цвет боли, утраты и невосполнимой потери. Но никто не видел и не слышал этой боли, потому что у кровожадного человека, познавшего жажду наживы, нет чувства сострадания…
…Смотрит Загбой на долину с вершины гольца. Видит преобразившийся мир – новый мир, в который пришли люди. Угрюмо качает головой и негромко поёт свою песню:
Эко, человек! Вершина жизни!
Венец творения, заботы и добра.
Зачем ты когти амикана выпускаешь,
Копаешь землю, роешь яму под себя?..