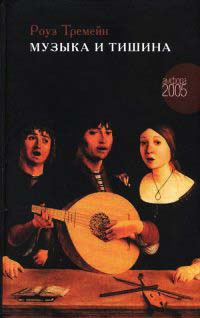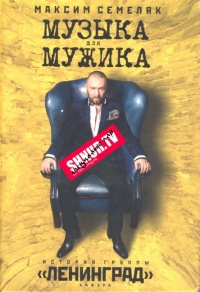Книга Дальше - шум. Слушая XX век - Алекс Росс
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Речь добавила две новые темы к знакомым угрозам в адрес евреев: смех и уничтожение. “Часто в моей жизни, – сказал Гитлер, – я был пророком, и меня часто высмеивали [ausgelacht]”. Он объявил, что пришло время окончательного решения еврейского вопроса, и размах этого решения сотрет улыбки с лиц врагов: “Я верю, что еврейство Германии подавится теперь своим оглушительным смехом”. И еще одно пророчество, которое сделал Гитлер: “Если интернациональным еврейским финансистам в Европе и за ее пределами удастся еще раз ввергнуть народы Европы в мировую войну, результатом ее будет не большевизация всей планеты и, таким образом, победа еврейства, но уничтожение еврейской расы на территории Европы”.
Гитлер использовал эти темы и в последующих речах. В сентябре 1942 года он сказал: “Евреи в Германии смеялись однажды [haben einst… gelacht] над моими пророчествами. Я не знаю, смеются ли они по-прежнему или их смех уже затих. Я могу только торжественно заявить: их смех затихнет”. А в ноябре того же года он сказал: “Надо мной всегда насмехались [ausgelacht] как над пророком. Из тех, кто тогда смеялся [die damals lachten], большинство сегодня уже не смеется, а тем, кто смеется, осталось смеяться совсем недолго”.
Таким образом, Гитлер закодированно сообщал о том, что началось “окончательное решение еврейского вопроса”. С музыкальной точки зрения эти речи кажутся особенно неприятными, потому что, возможно, в них есть аллюзии на Вагнера. Эхо смеха звучит во всем “Парсифале”. Кундри рассказывает Парсифалю, как она смеялась над страданиями Иисуса во время крестного пути:
Я видела – Его – Его —
И – смеялась…
И он взглянул на меня!
Отто Вейнингер, которого Гитлер в своих монологах описывал как “единственного хорошего еврея”, сказал о смехе в “Парсифале”: “Смех Кундри исходит от еврейства. Метафизическая вина евреев – в их зубоскальстве над Иисусом”. Позднее, в сцене чуда Святой Пятницы, юноша-мессия смотрит на цветущий луг и вспоминает о цветочных девах, которые соблазняли его. “Я видел, как они увядали, – шепчет он. – Те, кто однажды смеялись надо мной”. [Ich sah sie welken, die einst mir lachten.]
Одержимость Гитлера “Парсифалем” хорошо задокументирована. Ганс Франк в не всегда надежной автобиографии описывает следующую более-менее правдоподобную сцену, которая разыгралась в личном вагоне Гитлера в 1935 году:
Достали проигрыватель, и фюрер выбрал несколько пластинок. Сначала – прелюдию к “Парсифалю” в исполнении дирижера Мука в Байройте. Мы сидели в вагоне медленно двигающегося поезда, и среди нашего одинокого молчания звучала святая музыка последней работы Вагнера, его Учителя. Когда они затихли, он задумчиво сказал: “Я строю свою религию на “Парсифале” – служить Господу торжественно, без теологических склок. На братской, настоящей любви, без показного уничижения и пустой казенной болтовни. Без этих омерзительных ряс и ведьминских юбок. Только в костюме героя можно служить Богу”.
“Парсифаль” стал предметом ожесточенной борьбы среди нацистских лидеров. Геббельс, Розенберг и Генрих Гиммлер хотели убрать оперу с немецкой сцены на том основании, что ее мистическое христианство чернит нацистский дух. Согласно документу, который обнаружила Бриггит Хаманн, Гитлер от души посмеялся, когда Виланд Вагнер, внук композитора, сказал ему, что, по мнению Розенберга, только второй акт достоин того, чтобы его исполняли. “Парсифаль” должен остаться, сказал Гитлер, хотя режиссеры обязаны найти для него более современное сценическое решение. Виланду было велено “сконструировать вневременный храм Грааля”. Как выразился сам Виланд, “[Гитлер] хочет, чтобы “Парсифаля” исполняли, скажем так, против его собственной партии!!!”
В 1934 году Гитлер убедил Винифред Вагнер нанять Альфреда Роллера для оформления нового “Парсифаля” – в духе угрюмого, полуабстрактного “Тристана”, которым он так восхищался в Вене. Старая стражница Байройта взбунтовалась против мрачных декораций Роллера, обозвав их “адской оргией”. Писатель Йоахим Келер выдвинул предположение, что роллеровская концепция храма Грааля повлияла на некоторые из самых грандиозных зрелищ нацистской культуры – например, “купол света” на партийных съездах в 1930-е и “большой купол”, который должен был вознестись в центре Берлина Шпеера. Через шесть лет после смерти Гитлера Виланд Вагнер представил публике минималистично обставленную, поэтично абстрактную версию “Парсифаля”, которую критики того времени провозгласили отречением от “нацистского” Байройта. Интересно, насколько далека была она от того замысла, о котором мечтал Гитлер.
Вилла Рихарда Штрауса в Гармише по-прежнему принадлежит семье композитора, и она все такая же, какой он ее оставил. Рядом с письменным столом Штрауса висит маленький портрет еврейского мальчика работы Изидора Кауфмана – художника, писавшего жанровые сценки местечковой жизни. Картина принадлежала бабушке Алисы Штраус Пауле Нойманн, которую в 1942 году депортировали в гетто Терезиенштадт в бывшей Чехословакии. После ее высылки Штраус неоднократно пытался добиться ее освобождения. Однажды он поехал на машине в лагерь, с обычным апломбом оповестил о своем приезде на входе (“Я композитор Рихард Штраус”, – сказал он.) и заявил, что хочет забрать фрау Нойманн с собой. Охранники ему отказали.
С 1935-го до самой смерти в 1949-м Штраус испытывал удивительный всплеск творческой активности. То, что этот подъем пришелся на пик безумия геноцида, представляет собой своего рода парадокс, о котором Томас Манн пишет в “Докторе Фаустусе”. В случае Штрауса нет никаких прямых доказательств того, что внешние события оказывали на него большое влияние, осознанное или неосознанное. Вполне вероятно, что унизительная отставка из Имперской палаты музыки отправила его обратно к первоначальным принципам. В операх и симфонических поэмах он рисует одинокую фигуру, лишенную земных иллюзий, двигающуюся от самонадеянности к обреченности. В “Гунтраме” герой уходит из общины в одиночестве. В “Кавалере розы” маршальша заглядывает за пределы своего мира в пустое, холодное пространство, где бесстрастно уходит время.
В “Женщине без тени” сказочному императору угрожает опасность превратиться в камень. Поздний период Штрауса начался с оперы “Дафна”, в которой женщина убегает от своей разрушенной жизни, превращаясь в дерево. Автобиографическая важность этой работы подчеркнута ясными аллюзиями на гармоническую структуру и тематический материал “Гунтрама”, его первой, болезненно неуспешной оперы: обе партитуры начинаются в соль мажоре и заканчиваются в фа-диез мажоре, и обе фокусируются на мелодиях, которые мягко сплетаются вокруг трезвучий и ускоряются в нисходящих триолях.
В широком смысле “Дафна” заключала в себе всю историю музыки: сюжет, взятый из “Метаморфоз” Овидия, напоминает о первой сохранившейся опере Якопо Пери “Дафна” (1597–1598). Дафна, одинокая нимфа, дочь речного бога, предпочитает общение с природой общению с мужчинами. Она отказывается от ухаживаний своего друга детства, пастуха Левкиппа, но оказывается в объятиях Аполлона. В приступе ревности Аполлон убивает Левкиппа, продолжавшего ее добиваться. Обезумевшая Дафна обещает всегда стоять над могилой друга “символом вечной любви”. Боги, сжалившись над ней, превращают ее в лавровое дерево, которое навсегда остается недвижимым.