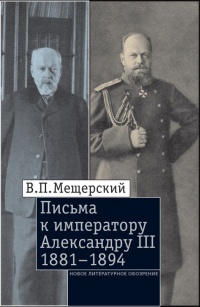Книга Победоносцев. Вернопреданный - Юрий Щеглов
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Как искренне звучат строки из письма к старшей Тютчевой: «Я не могу себя представить вне родного воздуха…» И снова диву даешься, как точно он чувствовал! И как точно выражал свои чувства! Здесь «воздух» не случайное слово. И вовсе не синоним земного отечества или родины и большой, и малой. Воздух для Константина Петровича есть эманация[41]существования. Родные стены и родная земля более узкие и менее значимые понятия, чем родной воздух. Эту тонкую грань необходимо выкристаллизовать, потому что Константин Петрович относился к редкой породе людей, для которых отсутствие родного воздуха равносильно кончине от удушья. И вместе с тем он вовсе не отрицает и не исключает возможность ухода из русской действительности. Вот как великолепно формулируется у него мысль о разрыве со страной: «…И одна мысль о том, чтобы усесться…» Какое подобрано понятие к определению действия: усесться! «…где-нибудь за границей, повергает меня в ужас. Мне кажется, это значило бы порвать самые дорогие, самые крепкие и задушевные связи. Бывают тяжкие минуты, когда человек теряет все, что называл своим и для чего жил на свете, — тогда прежняя среда, в которой лилась — пролилась жизнь его, кажется ему невыносима, и хочется ему убежать куда-нибудь в такое место, где у него ничего своего нет — и не бывало..» — писал он с горечью в дни, когда монарх утверждал собственноручно новые судебные уставы.
Сейчас, удаленный в отставку, брошенный правительством на произвол судьбы, проживший свою жизнь в окаменевшем пространстве нелюбимого города, он вспоминал строки давних лет с особой четкостью. Тогда вся жизнь была впереди и предугадать будущее он был не в состоянии. Тогда переживания не воспринимались как пророчество. Но сегодня он осознал, что не мелочное недовольство руководило им. Сегодня ему недостает воздуха, родного воздуха, хотя родина, отечество — вот они, за стенами нарышкинского палаццо на Литейном. «Вот когда, я понимаю, можно усесться, но — какое печальное сиденье!» — заключил он эмигрантский пассаж, непостижимый для бесчувственных и не имеющий ни малейшего отношения ни к квасному, ни даже к умеренному патриотизму и недоступный даже для лучшей части эмиграции, испытывающей какую-нибудь паршивенькую ностальгию и тягу назад, к родным пенатам, с крутым подмесом бытового и профессионального неустройства.
Я специально устраняю из периода середины шестидесятых годов то, что поддерживало существование Константина Петровича и служило внутренним стержнем устойчивости. Обряд и вера для него слиты воедино, они слиты в нем, внутри него. Это не образ жизни и не способ существования. Это он сам в любой — доброй и злой — повседневности. Хотел я Исключить сейчас затронутые обстоятельства из плавного течения рассказа, но, видно, не получится. Хотел поговорить в другом месте, но рука и глаз не пошли дальше. Тот удивительный чувственный клубок не рассечь, не разделить. Жажда дышать родным воздухом и молитвенное состояние — одно целое — и есть его душа, а государственная деятельность и даже сердечное томление просто важные составляющие бытия. Он испытывал невероятное желание открыть близкому человеку то, что мучило. В Вербную субботу, возвратившись из церкви от всенощной, в полном одиночестве, охваченный, бесспорно, каким-то чарующим воспоминанием, он бросился к письменному столу и воскликнул: «Христос воскресе! Боже, как хорошо у нас в России в эти дни повсюду, где есть храмы Божии, где есть молящийся народ!»
Он отдает посланию старшей Тютчевой себя без остатка. Рассекает собственную грудную клетку и раскрывает свои самые сокровенные тайны. Вот уж поистине церковь не в бревнах, а в ребрах! Народ знает, что сказать и как — пусть грубовато, но лучше-то на Руси и профессорам духовных академий не удается выразить суть при характеристике как церкви, так и человека.
«Сегодня день такой торжественный — сегодня церковь зовет каждого взять на себя крест свой и с этим крестом встречать идущего на страдания Спасителя — что за торжественный вход! И подумайте — что если бы точно каждый в эту минуту всем сердцем взял на себя крест свой — о, как их много, и каких крестов, — и так все вместе стали бы перед Богом, что за чудный, что за торжественный вышел бы хор! Но довольно и то, что мысль эта во всех есть, что эта мысль всеми поется в церкви. Какой чудный праздник! Есть ли у Вас там, в Ницце, такие праздники? Была ли у Вас русская вербная всенощная, русская Страстная неделя?» — заключает он вопросом обращение к дочери поэта.
Поэтичность и лаконизм у Константина Петровича определялись адресатом. Он умел писать и иначе, но везде личностность и исповедальность, если не брать в расчет официоз, превалировали в высшей степени, превращая почти любой текст в фрагмент по крайней мере духовной биографии. Есть резон здесь отвлечься и коснуться стилистики документов в широком смысле слова, принадлежащих руке Константина Петровича. На сей счет в минувшие времена высказывались самые разноречивые мнения. Не хочется полемизировать или даже останавливаться на утверждениях, что язык писем — это язык статей, которые многие воспринимали как кокетство, считая, что автор впадает в елейность и становится часто выспренним. Самое прекрасное качество, когда близость публикаций и писем совпадали едва ли не текстуально, явно недооценивалось. Константин Петрович обладал редчайшим качеством, когда сквозь печатный текст просвечивалась разнохарактерная беседа, не утрачивая оригинальной, лишь ему присущей интонации и индивидуальной стилистики.
Не во всем справедливый и не всегда точный при характеристике слога, которым Константин Петрович владел в совершенстве, Борис Никольский, с ног до головы оплеванный в советские времена не только за неосторожные антиеврейские высказывания, но и за приверженность к Спасителю, сумел все-таки уловить самое важное в огромном наследии Константина Петровича: «Он обладает удивительным искусством писать какими-то несомненными словами, с какою-то механической точностью выражающими свое содержание. Даже в минуты одушевления в его речи слышна металлическая, звонкая точность: его слова не отстают от мыслей, не обгоняют их; ни намеков, ни поэтической недосказанности в них нет. Как стилист, он, можно сказать, чеканит свои мысли. И это не элегантная народная чеканка изысканных и пышных французских стилистов, нередко при ближайшем рассмотрении оказывающихся просто изделиями из дутого металла: это добросовестная, несколько тяжеловесная и угловатая обработка полноценных веских мыслей».
Своеобразие слога, ясность, свойственная христианским текстам, культура при передаче того или иного сюжета, благородная манера письма ставят Константина Петровича впереди очень многих мастеров русского эпистолярного жанра. И притом личность, которая просвечивает в каждой строке, которая смотрит на нас изнутри каждого абзаца и которая строит фразу так, что слышишь или тоскующую, или раздумчивую, или восторженную — что реже! — интонацию голоса, неповторимая звуковая дорожка коего возникает из немоты листа. Вот, например, как Константин Петрович рисует нам крестный ход в память победы над Наполеоном, ежегодно совершавшийся в Москве. Здесь в наличии все признаки его превосходной стилистики, отмеченные Борисом Никольским, и качества, подчеркнутые в моих прибавлениях. Замечу, что многие страницы позднейших «Всеподданнейших отчетов обер-прокурора Святейшего синода Константина Победоносцева по ведомству православного исповедания» носят упомянутые черты, что значительно облегчает их чтение, несмотря на обилие статистического материала, совершенно — по нашей вселенской глупости — исключенного из научного и прочего оборота.