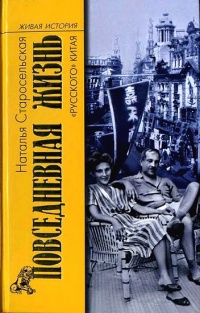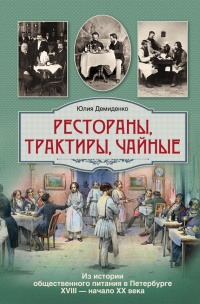Книга История журналистики Русского зарубежья ХХ века. Конец 1910-х - начало 1990-х годов - Владимир Перхин
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
К сожалению, призывы Дм. Безруких (статья «Почвенник и космополит» Р.М. № 2808 от 17 сентября 1970 г.) и М. Ошерова (статья «Калмыки, удмурты, марийцы.» – № 2818 от 26 ноября 1970 г.) – высказаться по вопросу отношения русского народа к «инородцам» – отклика не нашли. А вопрос этот, конечно, важный, и русскими, несомненно, ощутима та непрекращающаяся русофобия, которая существовала и до революции, но которая, с тех пор как Россия стала «Безымянной страной» (название книги очерков В.В. Вейдле [Paris, 1968]. – В.П.), поддерживается политическими эмигрантами за границей, работающими на умаление русского народа.
Конечно, не без боли мы замечаем, что это единственная «народофобия», которая почему-то не осуждается никем. Когда пишут об угнетенных народностях, как-то забывают, что русский народ не меньше порабощен, чем другие. Забывают также, что в порабощении граждан СССР принимали и принимают участие и другие народности. Нет никакого сомнения, что в настоящее время РСФСР – одна из самых обездоленных республик Союза. Гораздо легче и приятнее жить в Армянской, Украинской или Грузинской республике.
Но я хотела сперва о частном. Из России я уехала, когда мне было 12 лет. Вспоминая, какое было вокруг меня отношение к «инородцам», я не помню, чтобы о них как-то особенно отзывались. Все жители Российской империи были русскими гражданами. В Екатерининском училище, Петрограде, где я училась с сентября 1916 года до февраля 1917 года, в нашем классе были Розалион-Шассальская (армянка), кн. Гаяна Грузинская (грузинка), Светик Савицкая (полька), гр. Наташа Сиверская (балтийка), Зорка Кизельбаш (татарка) и самая красивая девочка нашего класса Ариадна Шенк, дочь крещеного еврея, вероятно, получившего дворянство, так как институт был «привилегированным» заведением. В старшем классе была калмычка кн. Тюмень, буддистка. К Зорке иногда ходил, очень меня интриговавший, мулла из петроградской мечети, к Савицкой – ксендз.
«Грузинка» или «калмычка» звучали для меня так же, как «рязанская» или «новгородская». Отцы многих «инородных» девочек занимали посты более значительные, чем мой отец. Но это, так сказать, бытовое. А продолжая частное, захотелось мне разобраться по поводу этих статей, что же, собственно, делает меня русской.
Род мой по отцу, говорит история, нормандского происхождения, затем связаны были прадеды с городами юго-западного края – Киевом и другими, что как будто позволяет мне считать себя и украинкой (хотя предки мои слова такого не знали), тем более, что сепаратисты взяли себе эмблемой трезубец, родовой знак многих русских фамилий. На протяжении веков породнились они, как и большинство русских, с татарами, с половцами, с литовцами, с поляками. Со стороны матери опять нахожу я в себе татарское, но также и австрийское, и итальянское наследие.
Почему же считаю я себя, даже и после 50-летнего пребывания за границей, русской? Ответ один: я принадлежу к русской культуре, то есть к чему-то, что единственное составляет народность и к себе привязывает. Но опять-таки русская культура не одними русскими создавалась. В ней присутствовали и Гоголь, и Даль, и множество других, никак не великороссов.
Как создавалась эта культура? Так же, как и во всех древних странах, и, конечно, не только мечом. Впрочем, какая из больших стран не родилась от меча? И считаю за особую привилегию, что к культуре, полученной мною по наследству, присоединилась культура лично приобретенная – французская. Франция, как и Россия, создавалась войнами. Друзья мои, уроженцы Лангедока, утверждают и сейчас, что «варвары севера» (Франции), люди языка д’Ойль, победили их высшую культуру – языка д’Ок. Во всяком случае сейчас Франция своей культурой объединила Эльзас (германцев), Бретань (кельтов), фламандцев, каталонцев, басков и нормандцев.
Собственно говоря, мы не знаем мировой культуры, которая бы не была слиянием в одном русле разных этнических групп. Видимо, одно из необходимых условий ее – разнородность элементов. Заключенная в узкие рамки одной «этни», культура не развивается, остается локальной. На это горько жаловались на майском съезде международной ассоциации литературных критиков писатели и поэты Каталонии. Несмотря на все качество их литературы, она никак не добивается мирового звучания. Тогда как за испанской стоит весь «Испанидад», то есть все страны, говорящие на испанском языке, хотя многие писатели и поэты «Испанидада» не принадлежат к испанскому народу.
Пастернак, так трагически связавший свою судьбу с русской культурой, отказался ограничить себя принадлежностью к одной этнической группе. Он написал: «Мы говорили о средних деятелях, не имеющих ничего сказать миру в целом, о второразрядных силах, заинтересованных в узости, в том, чтобы все время была речь о каком-нибудь народе, предпочтительно малом, чтобы он страдал, чтобы можно было судить, и рядить, и наживаться на жалости»88.
Культура создается, вопреки утверждению Померанца89, как раз из прилагательных, это общее дело и высокая ответственность. Она объединительница, а не разрушительница.
Русский народ со всех сторон призывают к покаянию, призывают его и русские, живущие в СССР. Появляются в СССР и Печерины90, и Чаадаевы. Покаяние – дело спасения души, но не надо, чтобы переходило оно в пессимизм, который заметен, например, в четырех статьях из Советского Союза, напечатанных в «Вестнике РСХД» № 97. От пессимизма недалеко и до отчаяния – самого тяжкого греха. И к тому же: почему-то призывы к покаянию идут всегда только по одному и тому же направлению. Соединенные Штаты и Сайгон не приглашаются к покаянию, а Китай, СССР и Ханой приглашаются. Русский народ призывается уважать все другие народы, но эти народы отказываются его уважать.
Тяжки грехи нашего прошлого, но длительное искупление страданием тоже велико. И не надо нам падать духом, хотя бы потому, что и пленная русская литература еще громко говорит миру. Помнится, в 1945 году в занятой союзниками Германии мы упорно искали какую-нибудь рукопись, тайно написанную книгу немецкого автора, обличающего гитлеризм, – и не нашли. Книги против нацизма были написаны после поражения. А вот в России, не дожидаясь освобождения от гнета, пишутся бесстрашные книги, опровергающие и пессимизм самих русских, и неправедные обличения русскими русского народа. Не насилием, а свободой духа держится и возвышается культура.
В первый день отпуска узнала о смерти Хрущева, и так живо встали в памяти наши довольно частые встречи в Москве в 1956–1957 годах, наши разговоры совсем не по протоколу, словесные шутливые дуэли и то благодушие, с которым он встречал мою не дипломатическую откровенность. На официальных банкетах в Кремле, на приемах в иностранных посольствах, на открытиях выставок он резко выделялся среди своих довольно сумрачных, а часто и леденящих одним своим взглядом коллег, как Молотов, Булганин, Суслов или Каганович. В том необычном положении, в котором мой муж и я были в Москве, юмор и откровенность были чудесной разрядкой от напряжения, а юмора, пусть мужицкого, но помещичьей кости, поэтому и мне понятного, у Хрущева было хоть отбавляй. Да и ума и здравого смысла было немало. Но самое главное – это то, что вместо коммунистического начетчика увидела я живого человека.