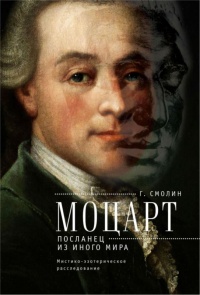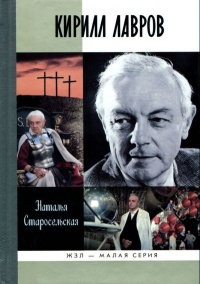Книга Дунаевский - Дмитрий Минченок
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Впечатление от фильма осталось кислое. Композитор ожидал другого. Во-первых, он очень хорошо знал жизнь и творчество Глинки, и, во-вторых, — это было уже личное — ему иногда казалось, что судьба Глинки в общих чертах иногда до комического похожа на его судьбу. Для него это был спор с режиссёром о положении композитора и его роли в обществе. Они по-разному относились к жизни, как к любовному напитку, и к радости, с какой его следовало испить. Александров всё делал тихо, молча, в своих комнатах. Дунаевский напоказ — щедро, открыто, широко. Александров создал своего Глинку так же похожим на реального, как снежная баба на Снегурочку. "Глинка на протяжении всего фильма выступает каким-то бесполым существом, — писал Дунаевский. — В то время когда он необычайно жизнелюбив, страшно влюбчив… Великого композитора надо показывать в сочетании с его человечным. Этого Александров не сделал".
У них было принципиально разное отношение к мифу о композиторе. Дунаевский писал: "Достойно удивления, как умудрились авторы фильма так ловко пробраться мимо почти всех событий жизни Глинки и создать неправдоподобный, фальшивый фильм. Знаменитое питерское наводнение, когда сразу вспоминаются Пушкин, "Медный всадник", одинокий возлюбленный, потерявший возлюбленную, — в общем, все хрестоматийные вещи, видимо, остались за пределами Гришиной эрудиции. Глинка был богат, а в фильме он беден, как церковная мышь, и нуждается".
И ещё Дунаевский, который, в отличие от Александрова, никуда не ездил, недоумевал, как великий путешественник Григорий Васильевич, побывавший в "Европах", Америке, Испании, показал Италию, карнавал, фейерверк и не показал человека среди этой экзотики. Не показал, как Глинка учился в Италии, как он себя готовил, "воспитывал" свой слух для того, чтобы служить родному музыкальному искусству, мысль о котором не покидала его никогда. Дунаевский констатирует: "Александров оторвался от запросов зрителя", имея в виду не идеологическую сторону, а прежде всего то, как скучно получилось. Александров создал "богатый" фильм в угоду одному постулату — доказать, что Глинка великий композитор и что его давила царская власть. Дунаевский высказал всё, что он думает об Александрове. "Фильм сделан хорошо, пышно, богато, как умеет делать Александров. Но фильм холоден, потому что в нём нет человеческого, тёплого. Всё в нём действуют холодно, кладут свои усилия на алтарь одного режиссёра".
История взаимоотношений двух талантливых людей, их спор по большому счёту, как это ни парадоксально, закончился победой Дунаевского. Проигрывая Александрову в смешных технических деталях удачливого быта, он выиграл в главном — в творчестве. Пересматривая сегодня все шедевры советского юмора, созданные Дунаевским и Александровым, убеждаешься в том, что фильмы Александрова, комедии, сейчас живут за счёт музыки. В видеоряде с каждым годом обнаруживаешь всё больше изъянов. И только музыка не устаревает. Это свойство гениальности.
Так закончилась великая дружба и великая гонка Григория Васильевича и Исаака Осиповича. Режиссёру была суждена долгая старость, пережившая его славу, с мучительной необходимостью остаться в конце жизни одному, без Любови Орловой, которая была для него всем. Его смерть в 1983 году окончательно опустила занавес над судьбой самой знаменитой пары советского кино.
Исаак из Лохвицы никогда не был гонимым. Но иногда он чувствовал, что жизнь, его жизнь — не та штука, которая может попасть в перечень добрых дел Бога. И это была самая большая проблема. Своей бессменной возлюбленной по переписке Людмиле Райнль-Головиной он писал: "Я, будем говорить грубо и, конечно, далеко не точно, — "благополучный человек", имеющий в жизни, как говорят, всё, что может иметь человек, славу, деньги, положение, не одну, а даже две семьи, не двух, а, кажется, трёх любящих женщин, в разной степени вращающихся в моей жизненной орбите — кто в прошлом, кто в настоящем. Да, я благополучно сижу на пороховой бочке, не взорвавшейся до сих пор исключительно благодаря моему умению "творить жизнь" и благодаря удивительной способности отдалять час расплаты за счёт трагических противоречий, разъедающих жизнь и целостность всех участников (прошлых и настоящих) этой житейской драмы… Удивительные способности мои к подобной жизни зиждутся на моём неиссякаемом оптимизме и материальном благополучии. А знание людей, с которыми приходилось и приходится сталкиваться, порождает умение лавировать с большими или меньшими потерями вот уже в течение более чем 15 лет среди разных бурь и подводных рифов".
Мог ли он подумать, что ему выпадет счастье царя Соломона — иметь много женщин и быть всеми ими любимым? Пожалуй, только его первая жена, мимолётная бабочка Мария Павловна, была исключением из этого списка. Сам композитор считал, что его "сгубили" любовные перипетии. Евгений Исаакович Дунаевский рассказывал: "В 1944 году, когда Исаак Осипович уже осел в Москве, Зоя Ивановна Пашкова — солистка Краснофлотского Ансамбля песни и пляски, которым руководил Дунаевский, сообщила ему, что ждёт от него ребёнка. В первую минуту, конечно, удивление, неверие, растерянность. Зоя Ивановна была талантливой плясуньей, очень красивой женщиной, к тому же на 24 года моложе Исаака Осиповича. Первоначально он был против (ребёнка). Семья у отца была: я и мама. И бросать её, как и в ситуациях прежних времён, он не собирался. Но поскольку Зоя Ивановна с отцом не согласилась, между ними произошёл разрыв, правда, недолгий".
Это истинная правда, что он отчаялся. Письма Зои Ивановны той поры достаточно укоряющи. Он мог любить многих женщин, но не мог позволить себе иметь от них детей. Однако же когда это случилось, ему оставалось только возрадоваться. У него родился сын, которого назвали Максимом. Ещё один сын, ещё один наследник его таланта. Своим друзьям по переписке Исаак Осипович сообщал об изменениях в положении примерно в одинаковых выражениях. "Мой сын уже большой. Художник! Ему 15,5 лет. Но жизнь моя сложна и мучительна. В 1945 году — 15 января — у меня родился второй сын от другой — моей фактической жены. Зовут его Максим. По-латыни "maximus" значит самый большой. И это действительно одно из самых больших моих мучительных переживаний. Всё это несколько поуспокоилось, но всё это страшно не устроено и раздвоено".
"В 45-м, когда родился Максим, — продолжает Евгений Исаакович, — отец снова потянулся к Зое Ивановне. Возникла запутанная и морально тяжёлая ситуация. Отец не мог дать своему сыну ни отчества, ни фамилии, поскольку по тогдашнему законодательству это было бы официальным признанием двубрачия. Отцу бы пришлось покинуть меня и маму, что он категорически отвергал. С другой стороны, он не мог допустить, чтобы его второй сын, которого он тоже любил от всей души, был "безотцовщиной". И началась полная тревоги, неопределённости и двусмысленности жизнь".
Теперь ему постоянно приходилось думать не только о своей возлюбленной Зое Пашковой, но и о Максиме. В 1945 году это было нелегко сделать. Он переехал из Ленинграда. Его старая роскошная квартира осталась государству, в неё вселилась балерина Ольга Йордан. Во время войны Исаак Осипович попал в старый дом в Ленинграде только в холодные декабрьские дни 1944 года. "Приходил в холодную пустую свою квартиру на улицу Дзержинского, подолгу просиживал за чтением чудесных писем. Я оглядывался кругом, видел мрак запустения, и мне мерещились иные дни, иная жизнь, бившая когда-то ключом в теперь унылых, запылённых комнатах… Знаю только, что письма были самым ценным из того, что сохранила мне судьба. Я бережно собрал их…"