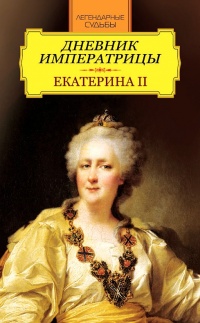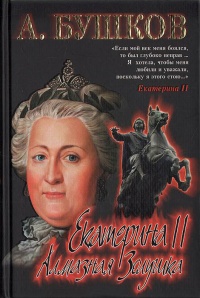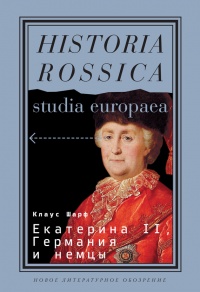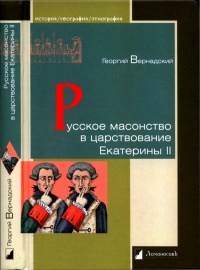Книга О величии России. Из «Особых тетрадей» императрицы - Екатерина II
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Но это было только слабым началом того блаженства, которое готовили нам и, главным образом, мне. На следующий день пришли мне сказать, что императрица снова назначит ко мне графиню Румянцеву. Я знала, что это был заклятый враг Сергея Салтыкова, что она недолюбливала также княжну Гагарину и что она очень повредила моей матери в глазах императрицы.
На сей раз, узнав это, я потеряла всякое терпение; я принялась горько плакать и сказала графу Александру Шувалову, что если ко мне приставят графиню Румянцеву, то я сочту это за очень большое несчастье для меня; что эта женщина прежде повредила моей матери, что она очернила ее во мнении императрицы, и что теперь она сделает то же самое и мне; что ее боялись, как чумы, когда она была у нас, и что много будет несчастных от такого распоряжения, если он не найдет средств отвратить его.
Он обещал мне похлопотать об этом и постарался успокоить меня, боясь особенно за мое положение.
Действительно, он отправился к императрице и, когда вернулся, сказал мне, что он надеется, что императрица не назначит ко мне графиню Румянцеву. В самом деле, я не слышала больше разговоров об этом, и все занялись только отъездом в Петербург. Было установлено, что мы проведем 29 дней в дороге, то есть, что мы будем проезжать ежедневно только по одной почтовой станции. Я умирала от страху, как бы Сергея Салтыкова и Льва Нарышкина не оставили в Москве; но не знаю, как это случилось, что соблаговолили записать их в нашу свиту.
Наконец, мы отправились десятого или одиннадцатого мая из московского дворца. Я была в карете с женою графа Александра Шувалова, с самой скучной кривлякой, какую только можно себе представить, с Владиславовой и с акушеркой, без которой, как полагали, невозможно было обойтись, потому что я была беременна; мне было до тошноты скучно в карете, и я то и дело плакала.
Наконец, княжна Гагарина, которая лично не любила графиню Шувалову из-за того, что ее дочь, бывшая замужем за Головкиным, двоюродным братом княжны, была довольно необходительна с родителями своего мужа, выбрала минуту, когда она могла подойти ко мне, чтобы сказать мне, что она старается расположить в мою пользу Владиславову, потому что и она сама, и все боятся, чтобы ипохондрия, бывшая у меня в моем положении, не повредила и мне, и ребенку, которого я носила.
Что касается Сергея Салтыкова, то он не смел ко мне ни близко, ни даже издали, из-за стеснения и постоянного присутствия Шуваловых, мужа и жены. Действительно, ей удалось уговорить Владиславову, которая согласилась по крайней мере на некоторое снисхождение, чтобы облегчить состояние вечного стеснения и принужденности, которое само и порождало эту ипохондрию, с какой я уже не в силах была справляться.
Дело шло ведь о таких пустяках, всего о нескольких минутах разговора; наконец это удалось. После двадцати девяти дней столь скучной езды мы приехали в Петербург, в Летний дворец. Великий князь возобновил там прежде всего свои концерты. Это несколько облегчало мне возможность разговаривать, но ипохондрия моя стала такова, что каждую минуту и по всякому поводу у меня постоянно навертывались слезы на глаза и тысячу опасений приходили мне в голову; одним словом, я не могла избавиться от мысли, что все клонится к удалению Сергея Салтыкова.
Мы поехали в Петергоф; я много там ходила, но, несмотря на это, мои огорчения меня там преследовали. В августе мы вернулись в город и снова заняли Летний дворец. Для меня было почти смертельным ударом, когда я узнала, что к моим родам готовили покои, примыкавшие к апартаментам императрицы и составлявшие часть этих последних.
Александр Шувалов повел меня смотреть их; я увидела две комнаты, такие же, как и все в Летнем дворце, скучные, с единственным выходом, плохо отделанные малиновой камкой, почти без мебели и без всяких удобств. Я увидела, что буду здесь в уединении, без какого бы то ни было общества, и глубоко несчастна. Я сказала об этом Сергею Салтыкову и княжне Гагариной, которые, хоть и не любили друг друга, но сходились в своей дружбе ко мне.
Они видели то же, что и я, но помочь этому было невозможно. Я должна была в среду перейти в эти покои, очень отдаленные от покоев великого князя. Во вторник вечером я легла и проснулась ночью с болями. Я разбудила Владиславову, которая послала за акушеркой, утверждавшей, что я скоро разрешусь. Послали разбудить великого князя, спавшего у себя в комнате, и графа Александра Шувалова. Этот послал к императрице, не замедлившей прийти около двух часов ночи.
Я очень страдала; наконец, около полудня следующего дня, 20 сентября, я разрешилась сыном. Как только его спеленали, императрица ввела своего духовника, который дал ребенку имя Павел, после чего тотчас же императрица велела акушерке взять ребенка и следовать за ней.
Я оставалась на родильной постели, а постель эта помещалась против двери, сквозь которую я видела свет; сзади меня было два больших окна, которые плохо затворялись, а направо и налево от этой постели – две двери, из которых одна выходила в мою уборную, а другая – в комнату Владиславовой.
Как только удалилась императрица, великий князь тоже пошел к себе, а также и Шуваловы, муж и жена, и я никого не видела ровно до трех часов. Я много потела; я просила Владиславову сменить мне белье, уложить меня в кровать; она мне сказала, что не смеет. Она посылала несколько раз за акушеркой, но та не приходила; я просила пить, но получила тот же ответ.
Наконец, после трех часов пришла графиня Шувалова, вся разодетая. Увидев, что я все еще лежу на том же месте, где она меня оставила, она вскрикнула и сказала, что так можно уморить меня. Это было очень утешительно для меня, уже заливавшейся слезами с той минуты, как я разрешилась, и особенно оттого, что я всеми покинута и лежу плохо и неудобно, после тяжелых и мучительных усилий, между плохо затворявшимися дверьми и окнами, причем никто не смел перенести меня на мою постель, которая была в двух шагах, а я сама не в силах была на нее перетащиться.
Шувалова тотчас же ушла, и, вероятно, она послала за акушеркой, потому что последняя явилась полчаса спустя и сказала нам, что императрица была так занята ребенком, что не отпускала ее ни на минуту. Обо мне и не думали. Это забвение или пренебрежение по меньшей мере не были лестны для меня; я в это время умирала от усталости и жажды; наконец, меня положили в мою постель, и я ни души больше не видала во весь день, и даже не посылали осведомиться обо мне.
Его Императорское Высочество со своей стороны только и делал, что пил с теми, кого находил, а императрица занималась ребенком.
В городе и в империи радость по случаю этого события была велика. Со следующего дня я начала чувствовать невыносимую ревматическую боль, начиная с бедра, вдоль ляжки и по всей левой ноге; эта боль мешала мне спать, и притом я схватила сильную лихорадку. Несмотря на это, на следующий день мне оказывали почти столько же внимания; я никого не видела, и никто не справлялся о моем здоровье; великий князь, однако, зашел в мою комнату на минуту и удалился, сказав, что не имеет времени оставаться.
Я то и дело плакала и стонала в своей постели, одна Владиславова была в моей комнате; в сущности, она меня жалела, но не могла этому помочь. Кроме того, я не любила, чтобы меня жалели, и не любила жаловаться; у меня была слишком гордая душа, и одна мысль быть несчастной казалась мне невыносимой. До тех пор я делала все, что могла, чтобы не казаться таковой.