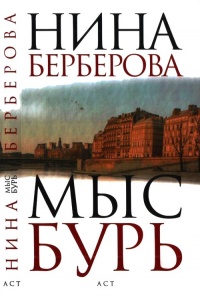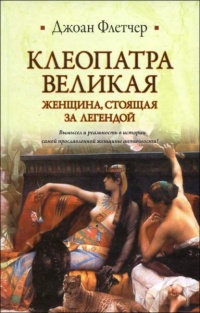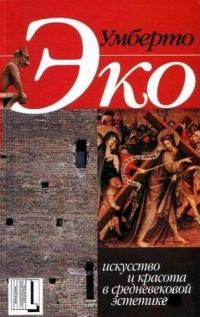Книга Госпожа Рекамье - Франсуаза Важнер
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Что именно читали Ампер или Ленорман перед небольшим собранием, состоявшим, кроме гостей, из Адриана, герцога де Дудовиля, герцога де Ноайля, Балланша, Сент-Бёва, Эдгара Кине, Дюбуа, Лаверня, аббата Жербера, г-жи Тастю и г-жи Дюпен? Скажем вкратце, что в целом рукопись 1834 года была составлена как «драма в трех актах, представляющая драму века», по выражению г-на Левайяна, Шатобриан планировал описать три свои карьеры: юность, когда он был воином и путешественником, свои писательские успехи при Империи и деятельность на государственном посту при Реставрации. В 1834 году было написано восемнадцать книг: двенадцать первых касались его юности, шесть остальных повествовали о поездках в Прагу. В просторном здании «Записок» не хватало еще книги, посвященной Веронскому конгрессу, которая выйдет отдельно, так же как и третья часть, охватывающая две эпохи: конец Ста дней и обе Реставрации вплоть до июля 1830 года. В центре всего этого — книга о Жюльетте.
Собрания в Аббеи получили мощный резонанс: репутация автора, тщательный отбор, проведенный Жюльеттой, пламенный текст прельщали Париж. Пресса о них заговорила: Жюль Жанен, не присутствовавший при чтениях, непонятно каким образом опубликовал о них хвалебный отчет… Шатобриана поощряли продолжить работу: в 1836 году издатель Деллуа и его компаньон Сала решили создать коммандитное общество, чтобы использовать права на «Записки». Теперь-то уж он успокоится — так, по крайней мере, полагали окружающие…
Во всяком случае, это был ключевой момент истории Жюльетты и Аббеи, своего рода апогей, причем общепризнанный. Во время своей блестящей светской жизни при Консульстве и в начале Империи Жюльетта воплощала собой благовоспитанность на французский манер, теперь же она представала покровительствующей силой, способной поощрить, раскрыть и позволить раскрыться тому, что было самого состоявшегося в литературе ее эпохи и ее страны.
ЗАКАТ
Это ведь Вы мне сказали: «В нашем сердце нет ничего, что не открылось бы со временем…»
Все покинуло меня, кроме Вашего образа, который следует за мной повсюду…
Да, красавица из красавиц, богиня хорошего вкуса, могущество, покровительствующее талантам, символ своей эпохи — Рекамье, ради которой вся Европа устремлялась на улицу Монблан, несравненное, блестящее воплощение женственности… Теперь нам придется последовать за ней спокойным путем ее осени.
Можно ли в это поверить? Годы, мирно протекавшие со времени первых чтений «Замогильных записок» в Аббеи до самого их завершения в 1841 году, годы, струившиеся на фоне политической безмятежности и мещанского процветания, были самыми волнующими в жизни Жюльетты, ибо были самыми счастливыми: годами свершений и плодотворного умиротворения, годами любовной нежности и сопричастности с Рене, гармонии между семьей и светом…
Во-первых, Жюльетта мало и «хорошо» постарела, возможно, в этом наилучшим образом отразилось ее искусство жить. Ее ясная и ровная натура, не поддающаяся на обман — ни чужой, ни свой собственный, — к тому располагала. Она принимала реальность, вместо того чтобы бороться с ней, и потихоньку кое от чего отказывалась. Она сменила свой «фирменный» белый цвет на серый — новый символ. Сент-Бёв сообщает о том, как она ответила одной своей знакомой даме, которая, после долгой разлуки, сделала ей комплимент по поводу ее внешности: «Ах, дорогой друг, нечего больше строить иллюзий. С того самого дня, когда я увидела, что молодые савойцы больше не оборачиваются на улице, я поняла, что все кончено».
С определенной точки зрения это было правдой. Но что ей было за дело? Ее красота смягчилась, ее собственный блеск отошел на второй план перед тем, что казалось ей важным: принимать других, заботиться о счастье окружавших ее людей, оберегать главную свою любовь — Рене. Чем больше проходило времени, тем больше ему требовались присутствие и нежность Жюльетты, ее участие в нем самом и в его трудах. Все это было ему необходимо для единения с самим собой, которого он тщетно пытался добиться благодаря светскому обществу и которое могла ему дать только Жюльетта.
Вторым моментом, наполнявшим жизнь Жюльетты, было как раз поведение Шатобриана. Она хотя и не преобразила его кипучую и сильно ранимую натуру, но умерила его резкость, эгоцентризм, капризность, из-за которых с ним было трудно, если не сказать невозможно, жить. Маленький дикарь из Сен-Мало, мечтавший о славе, как будто не имевший никакой другой веры, кроме веры в свое величие, заставлявший вращаться вокруг собственной особы все, что попадалось ему на пути — пейзажи, события и лица, — наконец-то достиг уравновешенности. Случилось чудо, и этим он был обязан как самой Жюльетте, так и той атмосфере, которой она умела его окружить, той ритуальной регулярности, в которой они проводили время… Под семьдесят лет Шатобриан был способен осуществить тот грандиозный замысел, к которому его привели все его скитания, все его любовные и политические приключения. Наконец на него снизошла некая благодать, он достиг внутреннего примирения, особого настроения, делавших возможным создание магистрального произведения, позволявших облекать в возвышенные слова свою историю, поставленную в сердцевину истории его века. Поскольку Жюльетта поощряла глубинное слияние между тем, каким он хотел быть, тем, каким он был, и тем, каким он хотел, чтобы его запомнили, шедевр Шатобриана близился к завершению. Шедевром же Жюльетты, разумеется, было сделать так, чтобы он увидел свет.
Отныне страсть Жюльетты преобразилась в неизменное участие, и этим определялось ее отношение к писателю: ее свобода, терпение, знание людей, ее спокойствие служили Рене.
Сент-Бёв анализировал это следующим образом:
Г-н де Шатобриан в последние двадцать лет был средоточием ее мира, высшим интересом ее жизни, которому она не то чтобы жертвовала всеми остальными (она не жертвовала никем, кроме самой себя), но подчиняла все вокруг. Что-то вызывало у него антипатию, отвращение или горечь, о чем довольно ясно говорится в «Замогильных записках». Она все это умеряла и исправляла. Как ловко она умела разговорить его, когда он молчал, вложить в его уста любезные и благожелательные к другим слова, которые он якобы недавно сказал ей наедине, но не повторил при свидетелях! Как она кокетничала ради его славы! Как ей удавалось порой заставить его быть действительно веселым, любезным, всем довольным, красноречивым — таким, каким ему с легкостью удавалось быть, когда он того хотел! Своим мягким влиянием на него она подтверждала слова Бернардена де Сен-Пьера: «В женщине есть легкая веселость, рассеивающая печаль мужчины». А с какой печалью приходилось сталкиваться ей! Печалью, которую Рене вынес из чрева матери и которая лишь увеличивалась по мере того, как он старел! Никогда г-же де Ментенон не приходилось так изощряться, чтобы развеселить Людовика XIV, как приходилось это делать г-же Рекамье ради Шатобриана. «Я всегда замечал, — говорил Буало, возвращаясь из Версаля, — что, когда умолкали похвалы в его адрес, король сначала начинал скучать, потом зевать и был готов уйти». Любой стареющий великий поэт — немного Людовик XIV в этом смысле. Каждый день она изобретала тысячу милых способов, чтобы возобновлять и освежать эти похвалы. Она снискивала ему новых друзей, новых почитателей. Она всех нас приковала золотой цепью к пьедесталу его памятника.