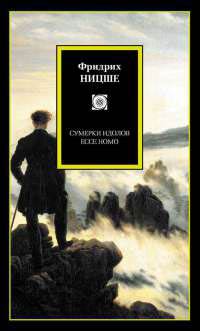Книга Северный крест - Альманах Российский колокол
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
* * *
Красотѣ критскаго искусства противополагается красота подвига М.: красота критская неподлинна, въ отличіе отъ красоты чаяній, мыслей, дѣяній М.: въ здѣшнемъ мірѣ не можетъ быть иной истинной красоты, кромѣ красоты героическихъ дѣяній, дѣемыхъ своимъ Я ради своего Я. По-критски земной черно-красной прото-корридѣ противополагается небесная (хотя и кажущаяся слѣпцамъ адскою и дьявольскою) игра М., белопламенная и лазурная, виннокрасная и багрянопылающая: съ судьбою, бытіемъ, съ жизнію и смертью, съ міромъ и съ однимъ красноярымъ быкомъ – съ создавшимъ, съ княземъ міра сего; а тавромаху по прозвищу «Хроменькій» – огненный тореро М.
* * *
Коррида – нѣчто совершенно испанское, хотя и уходящее своими корнями въ бездонную древность, то, чѣмъ испанскій духъ – черно-красный, утонченно-мужественный и аристократически-жестокій – вполнѣ себя являетъ. Что ужъ удивляться, что въ Каталоніи она запрещена съ 2012-го; въ новой – американизированной, духовно и душевно оскопленной, какъ слѣдствіе, феминизированной и обезличенной – Европѣ ей нѣтъ мѣста; повсемѣстный ея запретъ – лишь дѣло времени. Приходилось видѣть и слышать и русскую реакцію на нее: русскіе всѣ какъ одинъ – на сторонѣ быка; русскіе – діонисійцы, а Діонисъ исконно тѣсно и напрямую связанъ съ быкомъ (и самъ почитался онъ быколикимъ, быковиднымъ и пр., о чёмъ говорилось въ послѣсловіи); они сострадаютъ быку, а чрезъ него безсознательно – и себѣ; вотъ ужъ и впрямь, языкъ (безсознательное, архетипическое, исконное) говоритъ людьми, а не люди имъ. Остается добавить, что и нынѣшніе европейцы – и запретомъ корриды въ Каталоніи, и прочими состраданіями распростертымъ по землѣ тварямъ, и даже образомъ жизни своей – неосознанно поклоняются быку: нѣкоему красноярому быку, Европою-дѣвою зачавшему на Критѣ Европу-цивилизацію, – едва ли въ меньшей мѣрѣ, чѣмъ русскіе. Впрочемъ, состраданіе – это русская сущность (вперемѣшку – мѣрно-хаотически – съ противоположностью состраданія, съ прорывающейся порою жестокостью и часто (въ Россіи новой) съ инстинктами ресентиментъ). Но не выше ли оно созерцанія сего зрѣлища изъ уютной трибуны? Великолѣпенъ матадоръ, мужеженственный въ своемъ желаніи терзать неравнаго по героизму и добровольности, ибо это бой не героя съ героемъ и не лице предъ лице; великолѣпенъ матадоръ, а не толпа, да и онъ не во всёмъ; зрѣлище великолѣпно – да и оно не во всёмъ; великолѣпнымъ было бы оно, если у матадора не было бы свиты (квадрильи), а онъ не получалъ бы за то матеріальные прибытки, если бы бой былъ одинъ на одинъ, если бъ самая коррида, наполненная символизмомъ, была безъ припаховъ panem et circenses, безъ припаховъ шоу, тѣшащаго невысокія чувства. Коррида выродилась – вслѣдъ за самой Европой. Какая злая шутка – исторія: Европа-цивилизація была зачата Европою-дѣвою и однимъ быкомъ, жила – борьбою съ быкомъ, на исходѣ дней своихъ – борьбою мнимой, спрофанированной, выродившейся, плоско-игровой, а кончилась Европа – состраданіемъ быку и запретомъ корриды (помимо запрета самой Европы въ Европѣ).
Корридѣ скорѣе слѣдовало быть вновь дѣйствомъ сакральнымъ, ритуальнымъ, даже иниціатическимъ, каковымъ она, безусловно, была въ древности, – дабы символизмъ ея – борьба святого, рыцаря съ демономъ-быкомъ, чернымъ, какъ чертъ, – не былъ ничѣмъ замутненъ, дабы въ мѣрѣ большей рѣчь шла о катарсисѣ: если слѣдовало бы совершить epistrophe, возвратиться къ утерянному: къ позабытой своей сущности, – чтобы её вновѣ обрѣсть. Но возвращеніе вспять, къ жизнетворящимъ истокамъ, любого рода возвратный порывъ для Европы нынѣшней невозможны – мертвый орелъ не вылетитъ изъ гнѣзда, а полузасохшее старое древо не будетъ вновь цвѣсть.
И всё же героическое «Эй, торо!» стоитъ многаго – больше дѣлишекъ міра; но оно стоило бы неизмѣримо больше, если быкомъ («торо») былъ бы нѣкій красноярый быкъ, съ коимъ матадоръ сражался бъ одинъ на одинъ; быкъ тотъ – создавшій. Великолѣпна была бы тавромахія, если бы тореадоръ, перепрыгивая черезъ быка, перепрыгивалъ бы и законы создавшаго, всю трясину міра и вѣсь его морокъ, и приземлялся бы: по ту сторону, на иной брегъ. То была бъ та самая небесная белопламенная и лазурная игра, виннокрасная и багрянопылающая, игра, о коей писалось чуть выше; и выше которой нѣтъ, по-видимому, ничего на свѣтѣ и за свѣтомъ.
* * *
Но если прекрасная природа – дочь своего отца, развѣ сердце дочери не его сердце? Развѣ ея сокровенная сущность не онъ самъ?
Природа понимается у меня не на классическій (слишкомъ космическій) ладъ какъ инобытіе абсолютнаго духа (по Гегелю) и инструментъ его самопознанія: согласно сему подходу, онъ познаетъ себя, создавши свою противоположность; Духъ и природа – тезисъ и антитезисъ; синтезъ – человѣкъ.
Природа выступаетъ въ поэмѣ не какъ Bona Mater – хотя едва ли не всѣ геніи культуры всегда воспѣвали природу, будучи ею зачарованы и околдованы, здѣсь она понимается парадоксально иначе, тѣмъ паче сіе удивительно для романтизма: анти-минойски, вѣдь для минойцевъ вѣчно-умирающая и вѣчно-воскресающая природа (а также смѣна жизни и смерти, чередованіе временъ года, – словомъ, цикличность) – нѣчто наиважнѣйшее и глубоко священное; въ поэмѣ, напротивъ, она – наиболѣе удачное и опасное орудіе создавшаго, геніальная чара творца, сѣть, уловляющая души, уводящая отъ Я въ Себь. Возвышеніе человѣка надъ природой и рожденіе культуры, конечно же, взаимосвязаны, но далѣе онъ, человѣкъ, въ лицѣ лучшихъ своихъ представителей, подпалъ подъ нее (природа какъ храмъ), а въ лицѣ малыхъ сихъ – использовалъ какъ «мастерскую», на дѣлѣ служа природѣ, рабствуя у нея[63], ибо всегда являлся ея частью (служба природѣ справляется всякій разъ, когда мы потворствуемъ инстинктамъ и Себи; а не боремся съ собою, противоволя).
Сущность новоевропейской философии заключается в разрыве субъекта от объективного бытия, в переносе всех ценностей объективных глубин на субъекта и в обретении этой могучей, гордой, но одинокой личности, мечущейся по темным и необозримым пространствам опустошенного мира и стремящейся вдаль, вечно вперед, к туманной неизвестности, ибо только так и мог утвердить себя субъект, потерявший опору в твердом объекте и превративший все устойчивое в сплошное становление и искание. Параллельно этому наука в новой европейской культуре – и большею частью и вся философия – постулируют бесконечную, необъятную, оформленную только внешнемеханически вселенную в основе всех вещей, и в том числе всей истории и всего человечества».
Она всецѣло, глубоко ритмична, мѣрна, заданна, что означаетъ: она – несвобода, неволя. Ея бытіе – даже не дыханіе, а скорѣе – сердцебіеніе создавшаго. Она – лучшее изъ его твореній, ея чары для