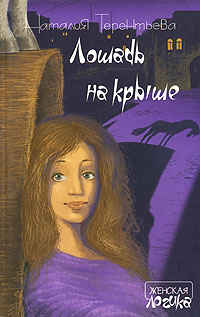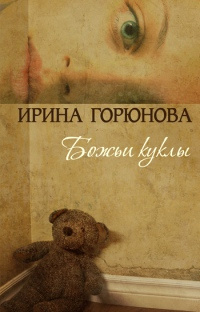Книга Прискорбные обстоятельства - Михаил Полюга
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Ну вот, я так и знал! Светлана немедля желает принять во мне участие — выспрашивает, заглядывает в глаза, тревожится, хотя никогда в жизни не видела моей матери, даже понятия о ее существовании не имеет. Это давняя игра, принятая среди людей и не без издевки названная сопереживанием. Почему-то считается, что если кого-то любишь, то непременно должен переносить часть своих чувств на родных и близких любимого человека. А ведь достаточно не изображать, не говорить, а просто побыть рядом…
— Извини! Мне, наверное, не надо было… — быстро соображает девочка, видя, что я отмалчиваюсь или отвечаю односложно. — Ты есть хочешь? Нет? Тогда давай свой скотч. У меня есть подсоленный крекер. Поставим все это на журнальный столик, завалимся на диван, погасим свет и станем медленно напиваться. Если утром будет плохо, ты будешь меня спасать?
Почему непременно плохо? Разве я позволю сопливой малолетке до смерти налакаться паршивым импортным самогоном? Да, спать с малолеткой можно, а спаивать нельзя! Я извращенец? Нет, вы только послушайте!..
Шутливая свара заканчивается долгим поцелуем. За последнее время Светик разохотилась, вошла во вкус, и через мгновение у меня припухают губы, плывет голова, а очертания полутемной комнаты как бы подтаивают, становятся ирреальными. И я втискиваю ее в стену, забираюсь под халатик и оглаживаю груди, скольжу неверными ладонями по теплым бедрам…
— Нет… Нет… Давай по-человечески… Я разложу диван…
Я и сам не люблю по-скотски. По крайней мере, не совсем так, как в дешевых голливудских фильмах, — не у стены, не под ржавым фикусом, не в пыльной кладовке или на лестничном пролете…
Точно давно женаты или близки, мы быстро и слаженно обустраиваем предстоящее ночное бдение: Светланка застилает диван, я извлекаю из серванта стаканы для виски, вазочку с крекерами и пристраиваю в головах, на журнальном столике. Затем свинчиваю пробку с горлышка темно-зеленой, приятно отяжеляющей руку бутылки и на четверть наполняю стаканы. Все! Не сговариваясь, мы какое-то время нерешительно и смущенно смотрим друг на друга. Ведь то, что легко и не совсем осознанно совершается в первый раз, далеко не всегда с такой же легкостью повторяется во второй…
— Я выключу свет. Можно? — первой овладевает собой девочка, и это обстоятельство в который раз убеждает, что женщины в любви значительно опережают нас, мужчин, — как в сообразительности, так и в сноровке; и там, где мы зачастую рефлектируем и даже откровенно трусим, они естественны и раскованны, как русалки в океане.
Но задумка укрыться в ночном полумраке ни к чему не приводит: комната взамен электрического освещения внезапно наполняется зеленовато-серебристым лунным сиянием. И хотя природой всем нам велено опасаться стылого, мертвенного лунного зрака, особенно при полной луне, когда та засматривает в окно спальни и тревожит, сеет в душе тоску и смуту, сегодня я несказанно рад этому неземному соглядатаю. Пусть, черт подери, смотрит, пусть не дает спать! У меня бутылка виски в запасе, а еще светлая живая душа рядом, исполненная любовью. Станем пить, говорить, переглядываться, множить неведомое на печальное. Авось выйдет так, что попустит…
— Вот так так! — подзадориваю я Светлану, демонстративно усаживаясь в кресло в глубине комнаты. — Какое неудобное время для скромниц!
— Думаешь, испугал? — бросает она с вызовом, но голос ее дрожит и дробится на странные горловые созвучия. — Можешь сидеть в своем кресле как истукан!
И она тянет, распутывает узел на пояске, но проклятый узел с первого раза не поддается, и она дергает уже с легкой досадой, наконец осиливает — и халатик вяло опадает, съеживается на полу у ее ног. А вот с ночнушкой сложнее: сорочка — с пришивными рукавчиками и ее надобно стягивать через голову. Тихонько вздохнув, она зажмуривается, скрещивает руки, нагибается и подхватывает полы сорочки. А-ах! — доносится до меня не то нежный шелест ткани, не то вздох сожаления — и я обмираю…
Нет, все-таки мужчина любит глазами! Вранье про любовь желудком придумали тупые жлобы, у которых атрофировались четыре из пяти органов чувств…
В призрачном лунном свете я вижу ее всю, но как-то зыбко, неверно, будто в подслеповатом зеркале. Кожа у нее отливает жидким серебром, глаза отсвечивают зазывным, русалочьим блеском. Зябко поводя плечами, она переступает через чешую сорочки, сброшенной на пол, приближается ко мне и стоит так, разведя руки в стороны и слегка наклонив голову набок, словно говорит: вот она я! Потом улыбается — улыбкой обольстительницы, сполна осознающей свою дьявольскую неотразимость, — чмокает меня в лоб и ускользает под одеяло.
А я какое-то время сижу в прострации и чувствую себя законченным болваном, готовым на все ради одного-единственного вожделенного мига…
— У меня кружится голова! — шепчет она, откинувшись на подушку и выравнивая дыхание. — Это что, так должно быть?.. Это и есть то самое?.. Никогда раньше, до тебя… А ведь могла жизнь прожить и не узнать, что так бывает…
Она подхватывается, ложится щекой мне на грудь, и оглаживает, и нежит меня шелковыми пальчиками: давай еще!.. Почему нет?.. Ну почему?.. Потому что маленькой девочке вредно есть много сладкого: заболит живот, подстережет кариес, и вообще — ночь только началась…
— Хочешь, скажу? Мне с тобой хорошо. Ты ведь меня не бросишь? Не бросай, ладно? А если… все равно эта ночь уже наша… Кто отнимет?..
«Никто, кроме нас самих, — думаю я и провожу ладонью по ее тонким спутанным волосам, по угловатому плечу и хрупко выступающим лопаткам, по гибкой пояснице и упругой округлости, плавно перетекающей в бедро… — Никто не может отнять то, что произошло между нами. Если только сами не откажемся помнить…»
— Расскажи мне о себе. Что-нибудь, о чем можно… Где учился, работал, как жил? Важное и не очень… Я совсем ничего о тебе не знаю.
Легко сказать — расскажи! Половина моей жизни — это Дашенька, а все, что осталось во второй половине, неинтересно, мелочно, скупо.
Что-то из мелочей? Вот, положим, Харьков. Ты была когда-нибудь в Харькове? По тем временам город снабжался по первой категории, и впервые в жизни я увидел в магазинах разные сорта колбас, корейку, охлажденную птицу, апельсины, марочные вина. А какие погребки и бары там были! На Сумской в погребке можно было под шоколадку выпить стакан отменного крымского хереса, портвейна или муската. В ресторанах подавали цыплят табака, шашлык с невиданными тогда маслинами. А в городском парке, на полпути от памятника Шевченко до университета, в скромном павильоне готовили изумительную яичницу с корейкой — под холодное «Слобожанское» пиво…
Светлана невольно сглатывает слюну и тянется к крекеру. Нет, постой! Сперва по глотку этого шотландского пойла, чтобы легче и безболезненней было вспоминать.
— Какой-то слабый скотч! — слегка запинаясь, хихикает она и откуда-то из-под мышки засматривает подплывшими мутно-зелеными глазами. — Так мы никогда в жизни не напьемся.
«А вот виски ты больше не получишь! — думаю я с какой-то новой, нежной заботой об этой хорохорящейся пичужке. — Слабый скотч! Еще, чего доброго, пойдешь на кухню, а попадешь в ванную».