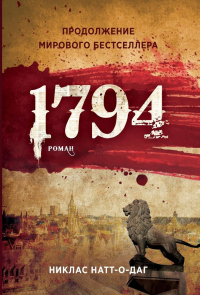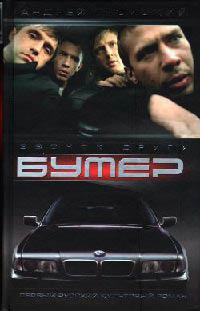Книга 1793. История одного убийства - Никлас Натт-о-Даг
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Блум так увлекся, что даже забыл про трубку, и она погасла. Он положил ее рядом с кучкой пепла на стол и пожал плечами:
– Что еще сказать? Конечно, красавцем его не назовешь. Или хотя бы симпатичным. Тут его Бог обидел… – Блум подумал и добавил: – В отличие от вас.
– Это верно… – Кардель усмехнулся бесстыжей лести. Бесстыжая лесть, конечно, самая действенная, но насчет Винге Блум прав. На редкость неприятная личность.
– Я видел его жену в прошлом году в опере. То есть я не знал, что она его жена, мне только потом фамилию сказали. Я поначалу не поверил. Потрясающая женщина, Кардель. Просто потрясающая! Красавица, добрая, обаятельная, приветливая, веселая… то есть все, чего в ее супруге и следа не найти. Наверняка женихи в очереди стояли. Понять невозможно. И надо же – ирония судьбы: не она его оставила, как можно было бы ожидать, а он ее…
Блум замолчал. Оживление погасло, как и его трубка. Он прислушался к многоголосому трактирному шуму. Старик в заплатанном кафтане вынул откуда-то простенькую деревянную флейту и заиграл тоскливую мелодию. Рядом на столе стояла миска для подаяний.
– Да-да, Кардель, именно так. И еще. Надо было бы с самого начала сказать, но, сами знаете, вино после пива… Сесил Винге умирает от чахотки. Он и так-то никогда здоровьем не мог похвалиться, а болезнь его окончательно доконала. Совсем отощал, тень одна осталась. Бледный, конечно, а так-то он скрывает, что болен. На людях старается не кашлять, а если закашляется, у него всегда носовой платок с собой… Заметьте: темный, на темном платке кровь не видна. Поговаривают, ушел от жены, потому что хотел избавить ее от зрелища страданий умирающего мужа. Уважаемые доктора в Серафимском лазарете сказали: месяц тебе остался. А было это в июне, так что, считайте, живет взаймы. Нельзя сказать, чтобы его не уважали, но за прозвищами у нас дело не станет. Призрак дома Индебету – так его называют в управлении. За спиной, конечно.
Позже, когда Блум попрощался и на непокорных ногах устремился в стокгольмскую ночь, кабатчик, погасив последние сальные свечи, положил руку Карделю на плечо:
– Я тебя нанял порядок поддерживать, а не устраивать тут побоище. Ты так всех клиентов распугаешь, Микель. Я больше не стану тебе платить.
А уже совсем ночью, когда часы давно пробили двенадцать, Микель Кардель проснулся в своей каморке от одышки, сердцебиения и невыносимой боли в левой руке, чье отсутствие сознание упрямо отказывалось признавать. Второй раз за два дня. Ни вино, ни драка облегчения не принесли.
Никто не знал, как называется его болезнь, пока она не зашла в такую стадию, когда улучшения ожидать не приходится. Только когда смерть стала неизбежной, ей дали имя: скоротечная чахотка.
Началось в прошлом году, весной. Легкое покашливание, которое не утихло само по себе, как обычно, а продолжалось неделями. Он и в детстве часто простужался и кашлял, так что и внимания не обратил. Потом начались ночные ознобы, а по утрам он просыпался на мокрых от пота простынях. К лету пришлось постоянно носить с собой большой носовой платок, которым он пытался задушить очередной приступ кашля, чтобы не привлекать внимания. В июне впервые обнаружил на искусно вышитом платке пятна крови. Появились одышка, покалывание в боку, как при непосильном беге. В груди словно поселился тяжелый и ленивый зверь, ворующий у него воздух.
Врач пощупал увеличенные железы на шее и покачал головой:
– Золотуха у взрослых – редкое явление. Даже очень редкое.
И прописал отвратительного вкуса отвар на корне красильной марены, гвоздике, сладком папоротнике и бадьяне. Полбутылки в день.
Никакого облегчения. Врач опять долго качал головой и протирал очки.
– Дренаж. Надо дать выход вредным телесным жидкостям.
Прожег поташем небольшую, не больше ногтя мизинца, дырочку в грудной клетке и сунул туда горошину, чтобы ранка не заживала. Через пару дней обильно потек гной.
– Вот и хорошо, – обрадовался врач. – Теперь дело пойдет на поправку.
Но никакого улучшения не последовало. Жгучая боль в ране не давала ему спать по ночам, он то мерз, то горел в лихорадке, то обливался по́том. Жена всегда была рядом – промокала салфеткой лоб, вытирала полотенцем его исхудавшее тело.
– Это не пот, – грустно пошутил он. – Талая вода. Разве ты не замечаешь: я таю…
Она даже пела ему что-то вроде колыбельной, когда он метался без сна, измученный болью и одышкой.
Настала зима. Курсы лечения сменяли друг друга, не принося облегчения. Он сидел, согнувшись, над чашей с залитым уксусом мелом, пил непроцеженное молоко, дышал деревенским воздухом. По утрам просыпался в ознобе, и ничто не могло его согреть. На шее вздулись голубые вены, появились темные круги под постоянно налитыми кровью глазами. Кашель уже не удавалось остановить, с мокротой выделялись зловонные ошметки омертвевших легких. Пробовали отворять кровь – она тут же сворачивалась в синюшную корку: верный признак, что зараза еще не отступила.
Он уже не мог исполнять супружеские обязанности, не решался делить с женой постель. По ночам Мара10 сжимала грудь так, что казалось – всё, ребра не выдержат.
Месяц назад он принял решение: к врачам не обращаться. Любая попытка лечения оборачивалась ухудшением. Все, что он мог сделать, – призвать на помощь самодисциплину. Приучил себя не обращать внимания на постоянное першение в гортани и, самое главное, обнаружил важную вещь: единственное, что облегчает его состояние, – работа. Сосредоточенный труд не оставлял места для горьких мыслей, и тело послушно расслаблялось, старалось не мешать голове решать очередную задачу.
По ночам, в тесной каморке у Роселиуса, он разбирает и вновь собирает карманные часы в неверном свете свечей. Снимает зубчатые колесики, сортирует, а потом ставит на место, тщательно зацепляя одно за другое. Завинчивает крошечные винтики и не устает удивляться чуду: из набора бессмысленных, хоть и красивых шестереночек возникает разумный механизм, бросающий вызов мирозданию. Исправное тиканье настойчиво доказывает: все на свете можно измерить, в том числе и такую малопонятную и неощутимую материю, как время.
Винге ведет корабль своей жизни в последнюю гавань с помощью компаса, который указывал ему путь с юности. С помощью рассудка. Он уговаривает себя: ничего страшного, все люди рано или поздно умрут. Каждого можно считать неизлечимо больным, каждого подтачивает коварная болезнь, против которой нет лекарств. Название этой болезни – Время. Но по ночам, когда его бьет озноб, когда он просыпается мокрый, как после купания, уговоры не помогают. Его мучит и бесит не общий принцип «родился, жил, умер» – это аксиома, с которой можно примириться. Его бесит личная судьба, собственная мучительная смерть. Что будет дальше? Поразит ли болезнь суставы, кости, позвоночник, как это бывает при чахотке? Испустит ли он последний вздох во сне? Или в сознании, хватая ртом оставшиеся ему крохи воздуха и мучась от болей? Каких болей? Сумеет ли он достойно с ними справиться?