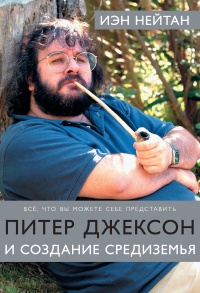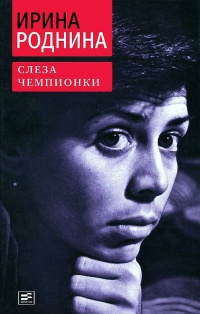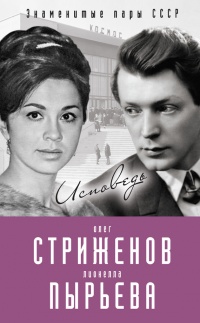Книга Рыцарь совести - Зиновий Гердт
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Самое дорогое, чего я жду от театра, — то, что воздействует на мои «спинные мурашки». Если мурашки пробегают по спине, если я потрясен, тронут, если мне хочется плакать или возмущаться, значит, я соприкоснулся с искусством. Все остальное не имеет значения. Значима только судьба людей в современном мире, только работа души человека.
Кино и театр — два совершенно разных ремесла. Я сорок семь лет не был на сцене. И вот Валерий Фокин позвал меня на «Костюмера» в Ермоловский театр. Я жутко робел. В кино ведь как? Получаешь две страницы роли — и гуляй, учи когда хочешь, обедай когда хочешь, снимайся когда хочешь. Особенно теперь я это ощущаю, при моем статусе «старика», «мэтра», когда теперь я могу намного свободнее попросить еще один дубль.
В театре же ты должен распределить себя на целую судьбу — за несколько часов сразу. Душу взбурлить, а не технику настроить. После целого дня ерничанья вечером выходить на полный раззор души. В «Костюмере» это было огромным наслаждением для меня.
Слава меня не интересует, но иногда здорово облегчает жизнь. Я, например, знаю, что в любой точке СНГ, в любом кругу, будь то светский раут или очередь за водкой, четверо из десяти меня узнают. Вот я сегодня ходил по разным инстанциям с вдовой моего покойного друга. Она передвинула стенки в своей маленькой квартире, и председатель кооператива ей пригрозил штрафом и прочими неприятностями. Я с ней пошел к районному архитектору, и вопрос был решен за пять минут. А если бы я не пошел? Она бы так и стояла в очереди, и в итоге ей бы отказали.
Во всяком случае, начальники узнают меня однозначно и всегда идут навстречу. Может быть, еще и потому, что я никогда и ничего не просил для себя лично.
Вообще-то я не очень актер. Я всю жизнь занимался не своим делом. И мне страшно мешает это понимание моей актерской неврожденности. А надо быть таким естественным перед камерой — как Чурикова в «Военно-полевом романе».
Все вышло случайно, и удержало меня в профессии только мое безволие. Вкусил — и не смог бросить плод, сил не хватило. Моя единственная страсть — русская словесность. В домашней библиотеке — поэзия и словари. Ничего не читал с таким наслаждением, как Даля! Я могу провести за этим остаток жизни. Прислушайтесь, как мы косноязычны. Как уродлив язык наших лидеров. Полное отсутствие синонимов! Вроде бы речь льется гладко, но вся она — сплошь штампы и банальности. Недавно я сделал лингвистическое открытие — докопался до происхождения слова «говядина». Откуда оно взялось, какой в нем корень? Смотрите: мясо в Петербург поставляли из Латвии, а по-латышски корова — «гов». Очень может быть, что я ошибаюсь или это и без меня давно известно, но я в восторге, что дотумкал до этого собственной головой.
Моя подлинная «профессия» — читатель стихов. Не путать с чтецом. Увижу где-нибудь строчки столбиком — не успокоюсь, пока не прочту. Уже будучи актером, я не пропускал ни одного поэтического вечера. По-моему, авторское исполнение стихов — самое верное. Евтушенко все-таки чересчур актерствует. А с какой великолепной невнятностью, неразборчивостью проговаривает свои стихи Бродский! Как читал Пастернак!
У меня в крови потребность обезьянничать, я запоминал манеру декламировать, подвывания, придыхания, писал пародии и немножко изображал. Конечно, это были «влюбленные» шаржи. Шаржи на возлюбленных поэтов. Тогда как раз появились первые громоздкие магнитофоны, кто-то записал меня на пленку, она разошлась, и однажды тогдашний главный редактор радиовещания Лапин пустил несколько моих пародий в эфир. Вскоре, пятого мая, в День печати, меня выволокли на сцену Колонного зала. Так я очутился на эстраде и не слезал оттуда 15 лет. Я был обречен на успех, поскольку пародистов тогда пересчитывали по пальцам.
Мой первый концерт в Одессе был назначен на 12 часов дня, а состояться он должен был на канатном заводе, в цехе. Канатному заводу исполнялось 130 лет, и это было самое грязное производство на всем Черноморском побережье. Рабочие там работают в смоле и гадости, бог знает в каких чудовищных условиях. А я им должен был читать Пастернака.
С такой тревогой я тогда спросил: «Зачем вы устроили мне это выступление?» Но переменить ничего было нельзя, концерт организовали в обеденный перерыв. И я пришел. Я очень робел. Народу было полно. Женщин больше, чем мужчин. И люди, одетые в просмоленные, продегтяренные робы.
И уже выйдя на самодельную сцену, я понял, что ни одного слова из своей лексики, из манеры говорить не переменю. Я буду с ними вести беседу, как разговариваю с академиками в московском Доме ученых. И о Пастернаке, и о Твардовском, которых они, конечно, никогда не читали. И о Феллини, о котором они первый раз слышат. Концерт должен был идти 45 минут, но он шел час пятнадцать — продлили время. И это был самый лучший мой концерт в жизни. Самый величественный, что ли. Он тронул меня до глубины души. Люди были счастливы тем, что я обращался к ним как к равным. А мы равны, вот в чем дело. Мы с вами все равны.
Собственно, с кино как с видом деятельности меня свел кукольный театр. Еще до пражских событий у нас в театре Образцова был спектакль «Чертова мельница» по пьесе чеха Дрды. Я играл Люциуса — черта первого разряда, такого легкого, быстрого, саркастического. Тогда спектакли становились событием в жизни города. И реплики Люциуса можно было слышать в московском трамвае.
И однажды мне позвонил режиссер Васильчиков, который занимался дублированием заграничных фильмов: «Зиновий Ефимович, у нас есть французская картина, где за кадром — некий голос историка, который комментирует шутя все, что происходит на экране. Попробуете прочитать этот рассказ в манере вашего черта?»
У меня была манера черта, представляете? Я создал манеру.
На следующий день после выхода фильма на экраны я стал знаменитым. Как-то подошел к стоянке такси. Говорю шоферу: мне туда-то и туда-то. «Вас, — отвечает, — хоть на край света». И цитирует: «Это было во Франции, когда женщины занимались любовью, а мужчины — войной». С тех пор меня стали приглашать читать уже «в стиле Гердта». Из всех республик! Еще за это ужасно много платили, как тогда казалось. Просили: «О болтах с левой резьбой, только в вашей манере!» — с таким диссидентским подтекстом. И я в результате завязал. Два месяца отказывался от всех предложений, на третий перестали приглашать. Стал занимать деньги…
Но спустя несколько лет случилось у меня в жизни огромное событие. Один провинциальный режиссер прислал мне сценарий — роль у него для меня там. Ну, понятно, почему мне ее предложили: эстрадный автор, который сочиняет какие-то репризы, комедийная, в общем-то, роль. Я прочел сценарий. Написан он был восхитительно. Великолепный просто сценарий, и совершенно необыкновенно написано главное действующее лицо. Но… я понимаю, что мне никогда в жизни никто такой роли не даст, а вот эстрадника этого… Я читал сценарий ночью, потом не мог заснуть, все думал, когда же, когда мне что-нибудь не смешное, а грустное, что-нибудь серьезное предложат… Режиссер этого фильма был тогда начинающий, молодой, но я про него знал, потому что он уже к тому времени успел сделать одну замечательную картину. И этот режиссер поступил со мной очень вежливо, потому что не прислал ассистентку, а приехал договариваться сам. Может быть, он сделал так потому, что был провинциальным режиссером… Ну так вот, он приехал, посмотрел на меня и спрашивает: «А что у вас с ногой?» Я говорю: вот, такое-то и такое-то дело. А он мне вдруг: «А зачем вам играть этого эстрадника? Вам надо играть главного! И судьбы у вас сходятся. И он лежал в госпитале, и вы…» Это был Петр Тодоровский с «Фокусником». Вот тогда, в шестьдесят шестом году, мы и познакомились. С тех пор не расстаемся. Я говорю Тодоровскому часто: «В твоем фильме я сыграю что угодно. Скажешь сыграть лошадь — сыграю. Только учти, она будет хромать на левую заднюю».