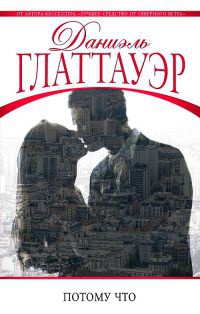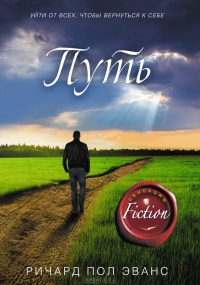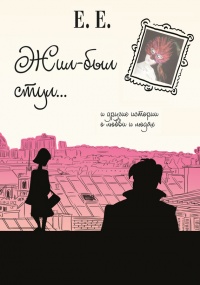Книга Светило малое для освещения ночи - Авигея Бархоленко
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
— Вот. Глотать перед сном, запивать водичкой теплой, запомнила?
— А что это? — глядя странно, спросила девка. — Аспирин? — Слякотные глазки быстро заморгали.
И правда — аспирин. Могла намешать и похуже.
— Верни кроссовки!
— Какие кроссовки?.. — Моргают глазки и изумляются. Кроссовок нет.
Куда она их дела?.. Спортивный азарт — найти, найти… Но из завтрашнего трамвая наплывает слякотный ребристый пол, и Лушка останавливается.
Стоит, встряхивая головой, будто гонит настырного комара. Идет к выходу. Ладно. Хоть что-то умеет неплохо.
Мышиные глазки зыркают за каждым движением, торопят, подталкивают в спину. И с внезапной жалостью Лушка оборачивается от двери:
— Не езди завтра в трамвае.
Торжествующие глазки умудрились расползтись в разные стороны, бабенка открыла рот, чтобы сцепиться, но пересилилась, потому что своего сладостного хотелось больше, скорее, скорее, сейчас, вот она, газета, которую постелет, на нее и поставит, и примерит, а потом отнесет и получит, а в сберкассу отвезет завтра, потому что сегодня никак не успеть…
Не услышала. Не поняла.
Не поняла бабенка ничего — ни про инфляцию, ни про трамвай.
«Мама, — вдруг позвала Лушка. — Мама!»
И оглянулась, ожидая, не выделит ли ей поток прохожих кого-нибудь, кто окажется ей матерью. Не может же она совсем одна. Она еще маленькая. У маленьких должна быть мать. Мать поднимет все, что ты на нее нагрузишь. Ноги матери стоят на земле. Ноги входят в землю. Мать в земле по плечи. Мать ушла с головой…
— Мама! — закричала она громко, и несколько женщин оглянулись на зов, и она приготовилась кинуться к любой, которая остановится, которая потерпит, пока Лушка добежит, но ни одна из оглянувшихся не согласилась признать ее своей. Лушка услышала их предупреждающее шипение: ты не своя, ты чужая, не вторгайся на территорию моих своих, иди, иди! Иди своей дорогой — ведь ты выбрала эту дорогу?
«Мне нужна мать! — закричала Лушка внутри себя. — Дайте мне мать!»
Матери ей не ответили.
Она, зверем вынюхивая направление наименьшего равнодушия, вновь оказалась у здания в глубине больничного двора, там, где была сколько-то дней назад и где обитала, работая, суровая бревенчатая баба, чьей твердой руке тогда так внезапно подчинилось Лушкино все. Не обращая внимания на женскую очередь, взорвавшуюся охотничьими возгласами преследования, Лушка заглянула в запретный кабинет, но врачиха там царила другая, и сестричка за столом была не та, и в следующем помещении порхала с брезгливой гримасой молоденькая санитарка, у которой еще долго не хватит разумения сунуть чужую голову под холодный кран, а потом не пожалеть казенного вафельного полотенца. Не повезло Лушке. Смена бревенчатой бабы закончилась. Сейчас бревенчатая твердой рукой вытирает кому-то нос у себя дома.
Не нашлось для Лушки матери. Судьба Лушке провалиться в землю самой.
Уйти отсюда. Чтобы не сторожили попеременные взгляды, блюдущие очередь в сером безрассветном коридоре. Но она медлила, чего-то ждала для себя из вереницы одинаковых, сидящих, доверявших друг другу, но выталкивающих ее. Ее гонят, как чужую собаку, а она стоит, она просит, что-нибудь, хоть слово, я не знаю, я одна, ну, посмотрите на меня не так, я же перед вами, мне что-то нужно, спросите меня о чем-нибудь, вы же все о чем-то говорите, я тоже тут — поговорите со мной!..
Очередь, не пустив нахалку, вернулась к своим историям.
— Невестка у меня. Никакого понятия. Седьмой месяц, а ей неймется. Два раза — и все мертвые. А теперь вот снова — и опять! Ночи не пропустит. Не слышу, думает.
— Сыну бы сказала, — посочувствовали рассказчице.
— Сын, не сын — все одно мужик, — возразила какая-то другая, — Их дело кобелиное, рожать не им. Блюстись должна женщина.
— Где ей! — плачуще вставила рассказчица. — Без стыда! Покарал Господь — не дождемся внуков.
Если б не последняя фраза, Лушка так бы и не врубилась — о чем, про что? Слова никакие, а что-то сообщают, и сообщаемое принимается, и говорить об этом могут, видать, без конца, тут просвета не выстоишь, и на кой она сюда приперлась, токсикоз, должно быть, а внуки-то здесь при чем? И тут же всплыла прошлодневная остропузая бабенка, которая сидела вот там же, в законной очереди, и которая пришла требовать для своего мужика справку про науку. «Значит, это выходит… И все про это знают… Это выходит… Так делов-то!»
И, вдруг фыркнув так громко, что законная очередь разом смолкла, Лушка вильнула тощей задницей и хлопком двери отрезала от себя дальнейшие рассуждения на интересную тему.
— В Прибалтику ездила. На «Бьиюк-Кабриолете». Они не знают, что такое «Бьюик»? Ну, это сундук тридцатых годов, но стоит миллион.
— Кооператор?!
— Гонщик. Он туда на соревнования. А у него вдруг давление. Не допустили. Вместо него — другой. А мы с трибуны смотрим. А этот другой, то есть на вираже — вжих!.. вжих!.. И вдруг колесо в сторону! Раз, раз, бум, трах — костей не осталось. А мы на трибуне. Мой побелел и раз-раз — в обморок. С трибуны грохнулся, щиколотку вывернул. Ну, я — дерг, дерг! — заморгал. Понять можно — если б не давление, это он бы без этого колеса, а мне цветы на могилку, а обратно — пешком. Ну, я его в «Бьюик-Кабриолет» — и на взморье. Не сезон, конечно, но пусть отдышится.
— Врать-то! — выслушав все, обиделась подруга. — Полмесяца назад у меня была.
— А «Аэрофлот» на что? — усмехнулась Лушка.
— А машина? — настаивала подруга.
— Деревня! Да в этих самолетах грузовые отсеки — как ангары, хоть с трактором лети. Если б не очередь, я бы там еще осталась.
— Какая очередь?
— Да так… Потом расскажу.
Но потом рассказывать не понадобилось, девицам было невтерпеж слушать про чужие виражи, они спешно придумывали свои, но, видя скучающую Лушкину харю, сникли — «Бьюик-Кабриолет» им было не выдумать.
— Встряхнемся, может? — предложила Лушка. — А то я одеревенела после больницы.
— Какой больницы? — вытаращила и без того круглые глаза подруга.
— Да не говори! Такие халявы… Все на следующий день вприпрыжку, а мне — постельный режим.
— Залетела?.. — Глаза подруги завистливо заблестели. Ей не получалось забеременеть и попасть на аборт, от этого подруга чувствовала себя неполноценной, лишенный риска балдеж терял остроту, однажды партнер увидел, что она зевает в самый неподходящий момент, и это беднягу настолько ошарашило, что он непроизвольно поник и даже как будто уменьшился.
— Ты чего? — спросила его смутившаяся подруга.
— Ну ты и кляча! — проворчал приятель, отваливаясь. — На кой я надрываюсь?
— Так тебе же надо! — моргнула подруга.
— А хрен ли мне в этом?