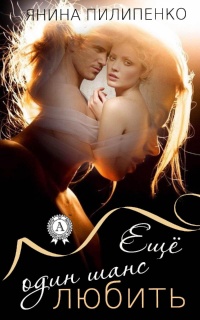Книга День рождения Омара Хайяма - Фазиль Ирзабеков
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Правильно говорит о ней Зейнаб – добрая она женщина. Да и курит-то понятно отчего, – от нелёгкой жизни. Одно горе у сироты – нет детишек. Но тут, по всему видать, сама только и виновата, навредила себе по молодости-глупости, переусердствовала. Вот все мы так, за глаза качают головами старушки-богомолки, не бережём себя поначалу-то, потом глядь – опомнились, а уж и поздно! Только себя и надо винить, сокрушаются бабушки, кого же ещё?! Нет, чего уж там говорить, добрая она женщина, зачем и спорить-то об этом, и за примером ходить далеко не надо. Взять ту же Зейнаб: Азиза ей, горемыке, нет-нет, да потрошков подбросит – это чтоб подешевле да посытнее. Деньги, опять же, когда сразу возьмёт, а когда и не то чтобы очень торопит. Бывало, что списывала должки те под хорошее настроение (жаль, что редкое, сетует Зейнаб). Или вон платье своё подарит какое – перешей да и донашивай на здоровье! Нет, добрая она женщина, что ни говори, зачем зря Бога гневить? Впрочем, Азиза любит, к примеру, пожаловаться на то, какая у неё трудная работа, да такая же и неблагодарная, грязная и тяжёлая; к концу рабочего дня устаю, говорит, как шахтёр в забое, нелёгкое, ох нелёгкое это дело – мясо рубить. С лёгкой руки Валентины Мстиславовны, точнее, с меткого её язычка, многие и звали её теперь за глаза не иначе как Мясорубкой. Или вот ещё: не могу, говорит, уважаемый сосед, отделаться от навязчивого ощущения, что яркие ладони нашей Мясорубки – это не следы хны, а несмываемые пятна крови.
Фраза эта была адресована Мирзе Зияду, но не миновала чутких ушей его внука; потом как-то погладила его Азиза по голове; хороший, говорит, мальчик, уважительный. И невдомёк ей, что уважительному мальчику сделалось в тот момент до того омерзительно, чуть не до тошноты: долго потом отмывал волосы, чуть не половинку «Земляничного» смылил. Неспроста, видать, твердила «Свет моих очей»: «В жилах этого мальчика течёт голубая кровь».
Есть такие люди, их ничтожно мало, и в каждое новое время кажется, что ещё немного – и их не станет вовсе, но они всё упрямо не переводятся. Ничего не желают эти странные существа принимать как есть, как все остальные. О многом, очевидном для многих, норовят поспорить, при этом непременно полезут в самую непроглядную глубину. Им ведь что важнее всего, – им всего важнее в каждой вещи и в каждом явлении до сущности докопаться. Ну, а как доберутся до неё, родимой, тут им всенепременно надо её, с таким трудом добытую, покрепче за шиворот ухватить, да и вывернуть наизнанку.
Вот и об Азизе, когда бы ни зашла речь, у всех одно, а у Мирзы Зияда иное, своё, особое мнение. «Во всяком явлении, – упрямо твердит старик, – важны нюансы, а в такой хрупкой материи, как человеческое общение, тем более». Это он про то, что если пошлёшь к ней, скажем, иной раз ребёнка с просьбой одолжить денег на пару деньков или за кусочком козьего сала на растирку (другого средства при сильной простуде и не ищите!), никогда сразу не даст. Откажет, правда, мягко, обязательно скажет: «золотце» – она всех детей так называет. Но если взрослый человек не поленится и придёт к её порогу самолично, так сказать, удостоит, редко когда не получит то, за чем пожаловал. Ну, промается минут пять-семь: степенна хозяйка, несуетна. Есть, прямо скажем, есть у неё такая вот маленькая слабость, да что там слабость, так, слабиночка: любит, когда дяди и тёти собственными ножками, да попросят, да то, да сё… только и гордых ведь хватает, пусть времена и несытные. Вот и не ходят к ней много. Но ведь и не откажет сразу, как некоторые, мол, нету и всё. А что до слабостей, – так у кого ж их нет?!
Только старый Зияд твердит по-прежнему: «Важны оттенки… важны нюансы…» – да присовокупит сбоку что-нибудь эдакое по-латыни. Это он любит, это уже его, чудака, слабость. Что и говорить, человек он образованный, старики потому и обращаются к нему не иначе, как Мирза, что значит «учёный человек». Да и то сказать, персидским владеет как русским, Священную Книгу толкует не хуже иного богослова, даже по-французски разумеет. Оно и понятно: окончил гимназию в николаевское время, классическое образование получил. Потом университет, и не где-нибудь, а в самом Петербурге, – к большому, блестящему будущему готовился, мечтал стать востоковедом, а стал… садовником.
Не верите?! Многие не верили, специально – на спор – ходили полюбоваться на то, как ловко орудует он лопатой в скверике, где блестит чугунный фонтан у древней крепостной стены. Всё кругом подстрижено, умыто и ухожено, узенькие кривые дорожки посыпаны хрусткой кирпичной крошкой, тёмно-розовой после дождя.
Трудно так вот сразу рассказать о нём, непростой судьбы он человек и очень неожиданный. И это, пожалуй, главное, что сразу выделяет его среди множества похожих пожилых мужчин, доживающих свой век в этом южном приморском городе. Ничего ему не стоит при всех человеку правду в лицо залепить, задирист бывает до невозможности, а ведь борода-то давным-давно седая… вот и получается как-то несолидно, не по возрасту легко. А главное, непредсказуем! Это всех пугает.
Вспомнить хотя бы недавние поминки в доме. И ведь не выпил тогда ничего. Это, говорит, очень дурно – потреблять горячительные напитки по данному поводу, и в этом пункте я полностью с верой нашей в ладу, тут я, как говорится, обеими руками голосую «за». И опять старики не знают, как к его словам отнестись: вроде правильные вещи говорит, но всё равно как-то у него получается не так, непривычно…
Так вот, попросил тогда слова сосед Гюль-Ахмед, отставной майор милиции, и произнёс вполне подобающий в этом случае траурный тост. Красиво так сказал, торжественно, напомнил собравшимся о заслугах покойного Васо Шалвовича перед родиной, про его доблестную службу на недавней войне, про долгую безупречную работу буровым мастером на Нефтяных Камнях… Ничего не забыл, даже ордена и медали все перечислил, когда и за что были получены.
Очень получилось красиво, люди слушали тихо, почтительно. И только одному Мирзе Зияду что-то пришлось не по душе. А не понравилось ему то, что обо всём этом говорил именно этот человек. «Да какое право ты, ты имеешь об этом… – коршуном налетел на оратора, – ты, который немцев до сих пор боится даже в кино! Почему ты сам не воевал?! Почему здесь отсиживался с детьми да бабами… И если бы только зад свой бабий от пули берёг, а то ведь гадил кругом, как последний сукин сын!»
Взвился старик, теперь уже не остановить: «…Или это я рыскал во время воздушной тревоги и пугал бедных стариков, стращал несчастных, ослепших от горя и слёз, что помогают врагу и умышленно нарушают светомаскировку, штрафами грозил, деньги вымогал, лампочки откручивал, а у них детки на фронте… и кто потом эти лампочки на Кубинку сплавлял?!»
…Гюль-Ахмед стоит бледный, слово вымолвить не в состоянии: только рука трясётся мелко-мелко да водка из гранёной стопочки расплёскивается на бумажную скатерть, расходится пахучими тёмными кружками… Но разве ж остановить разгневанного Зияда? Вконец разошёлся, бросает бывшему гражданину начальнику в посеревшее ненавидящее лицо (кажется, руками бы разорвал паршивого старикашку, кабы волю дали!), бросает, как плюет в глаза: «Или не ты, выродок, обесчестил бедную Сураю?! Где она сейчас, знаешь? Знаешь, подлец! А где дочь её от тебя, сводника, тоже знаешь?!»
…Трясущийся от ненависти отставник на неверных ногах пробирается уже к двери, и последние слова неуёмного старика шлёпают его вдогонку прямо по плешивому затылку. И что можно возразить, когда всё тут одна правда: красавица Сурая, продавщица из хлебной лавки, любимица улицы, сирота, состарится в пригородной психиатрической лечебнице.