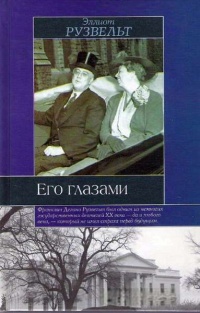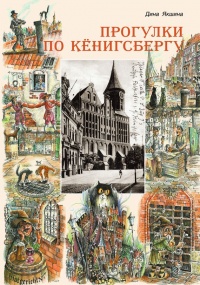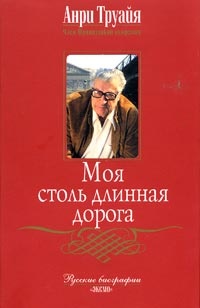Книга Длинная тень прошлого. Мемориальная культура и историческая политика - Алейда Ассман
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Эту оппозицию Хальбвакса между памятью и историей углубил шестью десятилетиями позже Пьер Нора во введении к своему монументальному труду «Les Lieux de mémoire». По его словам, «память» и «история» далеки «от того, чтобы быть синонимами. … Память – это всегда актуальный феномен, переживаемая связь с вечным настоящим. История же – это репрезентация прошлого. Память помещает воспоминание в сакральное пространство, история его оттуда изгоняет, делая прозаическим. Память порождается той социальной группой, которую она сплачивает… Напротив, история принадлежит всем и никому, что делает универсальность ее призванием»[36].
Подобный антагонизм между историей и памятью не универсален, он сам историчен. Память и история разделились лишь тогда, когда в XIX веке возникла историческая наука как профессиональный дискурс и они открыли друг в друге свою противоположность. Для всех более ранних форм историописания характерно то, что они сознавали себя как разновидность воспоминания, как сохранение памяти. Поэтому в древности понятия «история» и «память» пересекаются. От Античности до Нового времени в историописании постоянно подчеркивается, что его главной функцией служит сохранение памяти; историография считала своей задачей легитимировать генеалогию правящей династии, институции или государства, засвидетельствовать их преемственность отсылкой к славному прошлому. Первичной функцией историографии было то, что ныне именуется «исторической политикой» или «политикой прошлого»[37]; речь шла о конструировании такой памяти, которая в качестве «служанки власти»[38], заложив фундамент политического сообщества, обслуживает политические интересы правящей верхушки в настоящем.
Цицерон видел в историописании оружие против забвения. Эта формула, превратившись в устойчивый топос, определяла самосознание историографов вплоть до Нового времени. Подобное самосознание продолжало в письменных исторических трудах важнейшую функцию устных исторических преданий: деяния (res gestae) героев и царей, воспетые бардами, записывались в хрониках, чтобы спасти эти деяния от забвения, чтя мертвых и сохраняя память о них. Слияние памяти и истории в мифе характерно для устной исторической культуры, а также для историографии древних государств.
В качестве примера ослабления связи между историей и памятью можно привести греческого историка Геродота. Во вступительной фразе к своему историческому труду он называет его «Historiai» (что означает «критические разыскания»). Несмотря на обозначение своей позиции, Геродот подчеркивает во вступлении традиционную связь между памятью и историей. История остается и у него припоминанием, к тому же память прочно увязана с понятием «слава» (kleos, fama). Геродот записывает свои истории, дабы «прошедшие события с течением времени не пришли в забвение…»[39]А далее он продолжает: «и великие и удивления достойные деяния как эллинов, так и варваров не остались в безвестности». Подобная формулировка уже содержит в себе коренной сдвиг, ибо хотя в ней и подчеркивается прежняя ориентация историографии на удержание в памяти, однако по существу эта ориентация тут же и отменяется. Указание на эллинов и варваров свидетельствует, что историографический проект Геродота отказывается от узкого этноцентрического взгляда на события. Круг адресатов, для которого Геродот осуществляет свои исторические разыскания, уже не определен однозначно. Тем самым ослабляется идентификационная основа, являющаяся фундаментальной предпосылкой для конструкций сохранения памяти[40].
Индивидуальные и коллективные воспоминания осуществляются определенным субъектом, усиливая его самосознание. Поэтому мемориальная функция историографии всегда нуждается в эксклюзивной точке зрения, в определенной перспективе и идентичности. А у потомков, которых имеет в виду Геродот, уже расплываются четкие контуры этой идентичности. Мемориальная функция историографии расширяется, превращаясь в неспецифическую когнитивную функцию. Речь идет больше о знании, нежели о памяти, более о curiositas, нежели о memoria. Это подтверждается продолжением приведенной вступительной фразы: «в особенности же то, почему они вели войны друг с другом»[41]. Эта эксплицитная увязка деяния с причиной указывает на новую, просветительскую функцию историописания. Геродот стремится заглянуть за внешнюю сторону событий, вскрыть их причины и закономерности, из чего выводится универсальное знание о побудительных мотивах и о формах человеческой деятельности.
Обращаясь к прошлому, Геродот выходит за узкий горизонт собственных интересов, чем ослабляет узы между историей и идентичностью, а в тенденции и вовсе устраняет их. По мере того, как историография сближается с метаперспективой и концепцией универсального знания, она удаляется от памяти. При этой расстыковке этнографический взгляд выходит за горизонт собственных потребностей, обращаясь к чужим народам и культурам, проникаясь к ним совершенно новым интересом. Импульсом для подобного историописания служит историческая любознательность, а само историческое знание расширяется в тенденции до бесконечности. Для этого знания уже нет четко очерченной коллективной идентичности, которая присваивает его себе. Происходит не только отказ от специфической точки зрения – сам письменный дискурс покидает привычную дислокацию, выходит за пределы архива при государе. В конечном счете, как подчеркивает Нора, такое знание принадлежит «всем и никому», а универсальность становится ее «призванием». История, отказавшаяся от связи с памятью и идентичностью (а именно это подразумевается методологическим императивом «объективности»), становится универсальной памятью человечества, и ее местом служит научный архив[42].
«Историю, – пишет Морис Хальбвакс, – можно представить как универсальную память человеческого рода. Но универсальной памяти не существует. Носителем всякой коллективной памяти является группа, ограниченная в пространстве и времени. Собрать в единую картину всю совокупность прошлых событий можно, только изымая их из памяти групп, хранивших воспоминания о них, перерезая те нити, которыми они связаны с психологией тех социальных сред, в которых они произошли, оставляя от них одну только хронологическую и пространственную схему»[43].