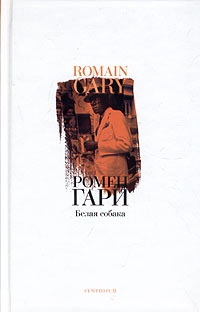Книга Повинная голова - Ромен Гари
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Чуть покачивая головой, высоко взметнув маленькие брови, Бизьен вращал глазами, словно в поисках подходящего места для гильотины. Он переводил дух. Вердуйе не мог прийти в себя и сидел словно громом пораженный. Какое-то экзотическое насекомое с жужжанием билось о стекло, как самая обыкновенная муха.
Кон чувствовал, как зарождается новый культ — культ туризма, великая жизненная основа которого состоит в том, что убийца всегда возвращается на место преступления, но на сей раз берет с собой жену и детей.
Посреди Диснейленда Кону виделся возмущенный, испуганный, убегающий прочь Христос, преследуемый организаторами культурного фестиваля: они гнались за ним с пластмассовым крестом, на удивление легким, пытаясь ему втолковать, что распятие будет чисто символическим, тем более что профсоюзные законы не позволяют держать Его на кресте больше восьми часов в день. Его будут кормить, поить, он будет пользоваться социальными льготами, и единственное, о чем его просят, — это побыть как бы Христом, как бы распятым на как бы кресте в грандиозном парке с культурно-историческими аттракционами. Но Христос от них ускользнул и нашел убежище в чьем-то сердце на Таити: он проводил сидячую забастовку и наотрез отказывался работать; любое упоминание о делах Человека или о готическом искусстве приводило его в бешенство.
Кон, стоя спиной к окну, с удовольствием курил гаванскую сигару.
На Вердуйе было больно смотреть. Он затравленно озирался, разрываясь между негодованием и боязнью оказаться в стороне от туристического бума, и со своей рыжей шевелюрой и обиженным выражением лица был действительно похож на Ван Гога — в те минуты, когда продавцы картин советовали Ван Гогу сменить манеру, чтобы его работы не так «шокировали хороший вкус».
— Вы даже не понимаете, что вынуждаете меня поступиться своей творческой манерой! Я пишу, как Гоген, не могу же я взять и за один день отречься от себя самого!
— Успокойтесь, старина, единственное, что от вас требуется, — это перевязать голову бинтом, надеть соломенную шляпу, отпустить подлиннее бороду и рисовать на набережной подсолнухи, бормоча время от времени что-то невнятное. По-моему, это не очень уж трудно.
Кон покинул кабинет Бизьена в состоянии такого омерзения, что оправился только через сутки с лишним после грандиозной попойки, из которой не помнил ничего, кроме лица Барона, сидевшего за столиком в «Кит-Кэте» и смотревшего на него в упор ярко-голубыми глазами. Барон был так безукоризненно одет, а Кон в тот момент чувствовал себя настолько грязным со всех точек зрения, что устроил безобразную сцену этому невозмутимому господину, озабоченному единственно тем, чтобы сохранить свою ослепительную чистоту. Он орал, что Бог не должен таскаться по подобным заведениям, что ему надоело, что за ним шпионят, что око Всевышнего не должно проникать в могилу и вечно наблюдать за Каином, что он не считает себя ни в малейшей степени ответственным за разрушение земного рая и ничего не имеет против водородной бомбы, которую собираются взорвать на Муруроа, и даже, напротив, находит, что ее еще мало используют. Его вышвырнули вон, а около двух часов ночи он в момент просветления обнаружил себя сидящим на высоком табурете и объясняющим бармену «Цветочной корзинки», какой он, Кон, великий ученый: он изобрел штуковину, которая позволяет поймать человеческую душу и засунуть в мотор вместо батареек или горючего; у него уже есть такой мотоцикл, такая электробритва и зубная щетка, и вообще у него все приборы такие. И это, в сущности, не что иное, как технический итог давно идущего духовного и нравственного процесса. С энергетическим кризисом покончено раз и навсегда. Осталась единственная загвоздка: опасность загрязнения атмосферы. Дальше он ничего не помнил.
Видимо, весь следующий день Кон проспал под бананами, потому что, когда он проснулся, вторая ночь близилась к концу. Волны бились о коралловый риф, неплохо имитируя биение негодующего сердца. На верхушке рифа, уже почти скрытой предрассветным приливом, метались в панике полчища крабов, ища какую-нибудь ниспосланную провидением щель. Металлические диски, надетые на стволы кокосовых пальм, чтобы защитить орехи от крыс, озарились по краям серебристым светом зари, напоминая нимбы, которыми великие шляпники Ренессанса увенчивали своих образцовых святых. Из стоявшей под пальмами лодки поднялась сероватая фигура, потянулась и удалилась. Это был человек-сувенир из тех, что во множестве разбросала по пляжам Океании эпопея Тура Хейердала: его звали Робер Кошлен, и он кормился тем, что выдавал себя за члена экипажа «Кон-Тики». Кон встал. Приступ отчаяния прошел. Он чувствовал себя вполне бодрым, готовым продолжить борьбу и вновь облачиться в панцирь циничного пикаро, который он натягивал каждое утро.
Директор гостиницы Матаоа Дженкинс, насчитывавший нескольких настоящих полине- зийцев среди своих английских, ирландских и китайских предков, смотрел на Кона свысока, как и подобало человеку, построившему пятидесятиметровый бассейн под самым носом у Тихого океана. Кон бледнел от ярости всякий раз, когда это возмутительное сооружение попадалось ему на глаза. Он не считал себя обязанным защищать интересы Океана, но бассейн на берегу моря воспринимал как личный вызов. Время от времени он совершал диверсионные вылазки, и несколько раз ему удавалось средь бела дня туда пописать. Не бог весть что, но, увы, это было все, что он мог сделать для Океана. По этой причине, как и по ряду других, Матаоа Дженкинс глубоко презирал никчемного Гогена Второго, которого черт занес на благословенные берега Таити.
— Господин Кон, мы же вас просили сюда не ходить. Вчера прибыл пароход. Все туристы — люди почтенные и наверняка не нуждаются в… ваших услугах.
— Я желаю позавтракать у вас в кафе, — объявил Кон. — Готов заплатить вперед. Вы не имеете права меня не пускать. Я прилично одет, у меня сегодня приступ респектабельности. Ностальгия, что поделаешь! Хочется увидеть родные американские лица! Это накатывает на меня иногда. Если вы меня впустите, обещаю больше не ссать в бассейн. Вам ведь уже пришлось раз пять менять воду. Так что предлагаю выгодную сделку…
Директор оглядел Кона с головы до пят: хулиган был облачен в брюки и чистую рубашку; его борода и капитанская фуражка выглядели не такими засаленными, как обычно. У него даже имелась черная кожаная перчатка — единственная — на правой руке. Возразить было нечего. Только нос по-прежнему торчал как-то нагло, словно это был орган дерзости, а не обоняния.
Однако Матаоа Дженкинс смотрел на Кона с большой опаской. Последний раз, когда он позволил ему затесаться среди клиентов гостиницы, — директор вдруг вспомнил, что тогда на нем тоже была эта черпая перчатка, — у двух американок, проговоривших с ним пять минут, случилась истерика. Это выглядело тем более загадочно, что, когда Матаоа сделал попытку вышвырнуть Кона вон, обе дамы бросились на его защиту и даже вручили негодяю чек на сто долларов, продолжая, однако, смотреть на него с ужасом и лить слезы. Было совершенно ясно, что он рассказал им какую-то непотребную байку. Дженкинс попытался осторожно разузнать у американок, что Кон наплел, но те наотрез отказались давать разъяснения и только заклинали его «быть гуманнее с бедным мальчиком».