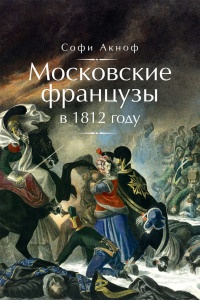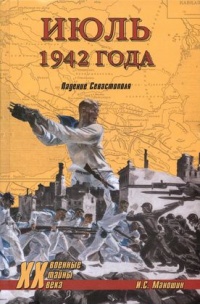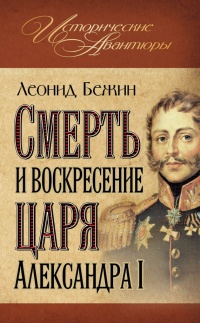Книга Семейная хроника - Татьяна Аксакова-Сиверс
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
В следующем году наше семейство в том же составе (бабушка и дедушка Сиверс, тетя Лиля и мы) жило на берегу Клязьмы в имении члена Московской городской управы Николая Николаевича Щепкина. Тут же отдельный домик занимала мать владельца Александра Владимировна, урожденная Станкевич (сестра писателя Станкевича и жена сына знаменитого актера Щепкина). Эти подробности я узнала позднее, а в то время воспринимала нашу соседку лишь как строгую старушку, имевшую трех совершенно черных кошек.
К нашему приезду в Тимонино дедушка приготовил нам с братом сюрприз. Нас ждала лошадка-пони и маленький шарабан. Радуясь подарку, мы не подозревали, что это последнее лето, которое мы проводим с дедушкой. Полтора года спустя, в апреле 1902-го, в день Вознесения, дедушка скончался от второго приступа грудной жабы. Произошло это близ Малого Ярославца Калужской губернии. Папа и дядя Никс Чебышёв поспели только к похоронам, которые состоялись в Москве, на кладбище Введенские горы.
Смерть дедушки, кроме горя утраты, принесла большие осложнения материального характера: квартира в Сивцевом Вражке подлежала ликвидации, дедушкины лошади, птицы, рыбы и пальмы были распроданы, и бабушка Надежда Петровна переехала в небольшую квартиру в Штатном переулке. Вскоре пришло и другое печальное известие: в Калуге внезапно умерла сестра Юлии Михайловны — Александра Михайловна Полторацкая; Юлия Михайловна должна была нас покинуть, чтобы воспитывать племянников.
На семейном совете решили, что осенью я не вернусь с дачи в Петербург, а останусь с бабушкой и тетей Лилей в Москве и поступлю в первый класс Арсеньевской гимназии.
В конце августа 1902 года я рассталась с отцом и Шуриком и начался мрачный год моей жизни, воспоминание о котором до сих пор мне тягостно. Моя судьба в этот период напоминала судьбу тех «сироток», которые описываются в сентиментальных английских повестях. Эти девочки попадают во власть недоброжелательных родственников, терпят преследования каких-то злодеев, находятся в состоянии уничижения, но потом все выясняется, правда торжествует и наступает счастливая развязка. Роль «злодеев» при мне исполнялась горничной Полей, имевшей влияние на бабушку, и офицером одного из стоявших во Владимире полков Петром Ивановичем Поляковым, имевшим влияние на тетю Лилю. Горничная Поля воспитывалась при монастыре, дискантом пела «Гора Афон, гора святая» и представляла собою законченный тип ханжи, приживалки с тонкими губами и змеиной душой. Учитывая ситуацию, она всячески клеветала на меня перед бабушкой, причем перечень моих недостатков сопровождался обычно глубоким вздохом и словами: «Яблочко от яблони недалеко падает!»
Петр Иванович Поляков появился в доме только после смерти дедушки, от которого скрывали, что тетя Лиля разводится с Чебышёвым и собирается вторично выходить замуж. Бабушка не очень любила дядю Никса, но когда она увидела нового будущего зятя, то поняла, что вторая беда будет хуже первой. Однако тетя Лиля не поддавалась никаким уговорам, ради любви жертвовала всем и порывала с людьми, которые (как например, Маклаковы) не одобряли ее выбора.
Поляков происходил из простой семьи, но слово «мезальянс» не только не останавливало, но даже подзадоривало тетю Лилю, которая была и оставалась до конца дней человеком больших чувств.
Отрицательных черт Петра Ивановича она в ту пору не видела и была всецело подчинена его воле. Сказав, что Поляков выполнял при мне роль злодея, я употребила это слово очень точно: он был злодеем по существу (конечно, в рамках, возможных для бедного армейского офицера). Денщики перед ним дрожали. Имея прекрасного сенбернара, Петр Иванович хвастался, что ударами плетки может заставить его съесть лимон. Культ «воли» Поляков ставил выше всего и умел добиваться цели. Женясь на моей тетке, он решил создать себе какое-то положение в жизни и выдержать экзамен в Академию Генерального штаба, что было нелегко, поэтому зимою 1902–1903 года, пока шел развод с Чебышёвым, вечера в Штатном переулке проходили так: тетя Лиля вышивала на пяльцах (она была прекрасная рукодельница), а Поляков читал вслух лекции по фортификации.
Внешне он был неприятен: небольшого роста, плотный, с бесцветным, тронутым оспой лицом, серыми холодными глазами и светлыми волосами ежиком. Меня он возненавидел с первого взгляда, и я все время жила под гнетом его презрения, которое он не давал себе труда скрывать.
За зиму, проведенную в Москве, характер мой резко изменился: из веселой общительной девочки я стала замкнутой, забитой, потеряла веру в себя. Одевали меня преднамеренно скверно, желая в корне пресечь любовь к нарядам, которую я могла унаследовать от матери; я жила в одной комнате с Полей, которая меня ненавидела. Отдушиной в этой тяжелой домашней атмосфере явились новые, захватившие меня, гимназические впечатления. (О гимназии Арсеньевой я буду говорить в особой главе.)
Ввиду того что бабушка была в глубоком трауре, в Штатном переулке она почти никого не принимала. По воскресеньям подавали коляску, и она ехала на могилу к дедушке, где был уже поставлен большой черный мраморный крест. К обеду появлялась ее дальняя родственница Калагеорги, называвшаяся просто «генеральша», и приносила все городские новости. Бездетная вдова лет пятидесяти, генеральша (Евгения Николаевна Бурдукова) жила в «Лоскутной» гостинице и была страстной поклонницей Малого театра вообще и Александра Ивановича Южина-Сумбатова в частности. Она не пропускала ни одной премьеры, неизменно сидела во втором ряду партера и подносила венки юбилярам.
Когда генеральша, шурша тяжелым шелковым платьем, появлялась у нас в гостиной, разговор сразу переходил на театральные темы. Ермолова, Лешковская и, главным образом, Южин не сходили у нее с языка, и сумбатовские пьесы «Измена», «Джентльмен» и «Мисс Гобс» комментировались на все лады. Когда я много лет спустя напомнила Александру Ивановичу о его поклоннице «генеральше», он, смеясь, сказал, что из всех психопаток она была самой постоянной и самой бескорыстной. И вот этой смешной особе пришлось сыграть благодетельную роль в моей судьбе (но об этом несколько позднее).
Единственный мой выезд в свет в эпоху Штатного переулка принес мне и радость, и муку, длившиеся целый год. Когда я, еще маленькой девочкой, бывала в Москве, отец возил меня к Мартыновым. (Виктор Николаевич Мартынов, инспектор кавказских и крымских удельных имений, был его большим приятелем.) Коренная московская семья эта родственными или дружескими узами была связана с целым рядом прогрессивно-дворянских семейств: Толстыми, Сухотиными, Трубецкими, Соллогубами. Софья Михайловна Мартынова (урожденная Катенина) была, несомненно, умна и гордилась дружбой со многими знаменитостями, среди которых были Лев Толстой и Владимир Соловьев.
Когда я в первый раз побывала у Мартыновых, они занимали особняк в Неопалимовском переулке. Через два дома от них жил Николай Авенирович Мартынов, художник, о котором я уже упоминала и который рассказывал, что его скромные посетители очень пугаются, когда звонят к другим Мартыновым и им отворяет дверь черкес с газырями и кинжалами.
Детей Мартыновых было много: Георгий и Дмитрий, в том 1902 году — студенты, Надя, серьезная барышня лет шестнадцати, Вера на год старше меня, Маруся — на два года моложе и совсем маленький Борис. Кроме своих детей, Мартыновы воспитывали троих детей Шереметевых, опекуном которых был Виктор Николаевич.